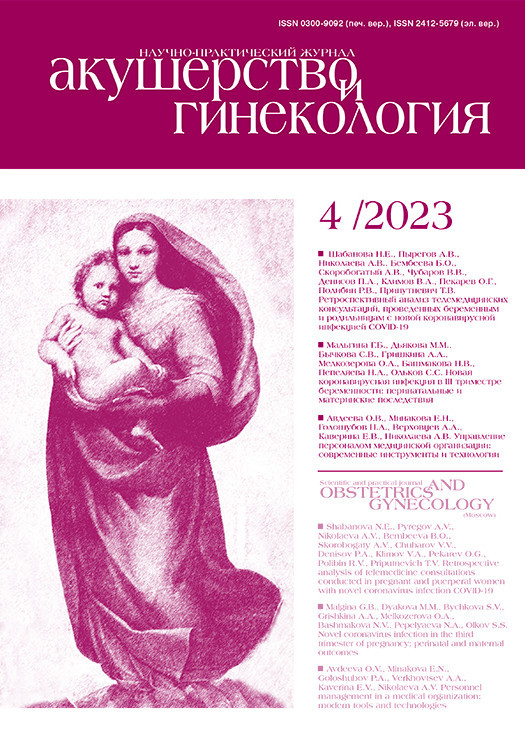Термин «большие акушерские синдромы» (БАС) (англ. great obstetrical syndromes) предложен Roberto Romero в 1996 г. [1, 2] с целью объединить заболевания и состояния в акушерской практике с множественными этиологическими факторами, длительным периодом до клинических проявлений, частым вовлечением плода, клиническими проявлениями, носящими адаптивный характер, развитием состояния вследствие взаимодействия генетических факторов матери и/или плода с внешней средой и/или между собой [3]. Ценность данного обобщения подчеркнута Di Renzo G.С. в 2009 г., чтобы попытаться объяснить, почему не всегда получается предотвратить и вылечить акушерские осложнения, привлечь внимание к тому, что различная этиология может объединиться общим патогенезом, указать на невозможность одним простым тестом выявить всех пациентов с детерминированным развитием акушерских осложнений [4].
Исходно авторы включали в понятие БАС преждевременные роды, преждевременный разрыв плодных оболочек, преэклампсию, плод, малый к сроку гестации (маловесный плод), крупный плод, мертворождаемость [3, 4]. В дальнейшем перечень дополнился поздним выкидышем, отслойкой нормально расположенной плаценты [5] и гестационным сахарным диабетом [6]. Каждое из перечисленных состояний является многофакторным, но с общими звеньями патогенеза.
Основным звеном патогенеза ранней преэклампсии, задержки роста плода считается патологическая инвазия трофобласта, приводящая к недостаточному ремоделированию спиральных артерий матки [7, 8].
Среди причин этого указывают патологический иммунный ответ, который вызывает нарушение плацентации, снижение сосудистой адаптации и плацентарной перфузии, воспалительную реакцию. Гипоксическое воздействие на синцитиотрофобласт приводит к его разрушению и формированию мультиядерных фрагментов и микровезикул, которые содержат алармины, попадающие в кровоток матери и вызывающие генерализованный воспалительный ответ [8, 9].
Воспалительная реакция, как связанная с инфекционными агентами, так и асептическая, также является звеном патогенеза определенной доли преждевременных родов и преждевременного разрыва плодных оболочек. У таких пациентов имеются повышенные уровни интерлейкина‑1α, амфотерина и других аларминов, которые отражают наличие процесса стерильного воспаления [10]. Также установлена связь развития преэклампсии с материнской инфекцией, в том числе с заболеваниями периодонта, мочевых путей и почек [8].
Синцитиотрофобласт, подверженный стрессу, также производит меньшее количество плацентарного лактогена и большее количество растворимой fms‑подобной тирозинкиназы‑1(sFlt‑1), то есть приводит к дисбалансу проангиогенных и антиангиогенных факторов. Поступающий в материнский кровоток sFlt‑1 связывает сосудистый эндотелиальный фактор роста и вместе с амфотерином, эндоглином и другими факторами участвует в формировании системной эндотелиальной дисфункции [9, 11].
Плацентарные сосудистые повреждения выявляются в 34% случаев преждевременных родов и в 35% случаев преждевременного разрыва плодных оболочек [8]. Повреждения плаценты, связанные с преждевременным созреванием, отмечаются в 41% случаев спонтанных преждевременных родов без признаков воспаления [12]. Наличие этих повреждений также может приводить к ишемическому повреждению синцитиотрофобласта и формированию системной эндотелиальной дисфункции, которая не успевает манифестировать или имеет меньшее значение, чем при преэклампсии.
Следует подчеркнуть, что указанные изменения встречаются не во всех случаях БАС, отражая гетерогенность патогенетических путей формирования осложнений и объясняя различные их клинические варианты.
Так, некоторые авторы предлагали выделение «материнской преэклампсии», при которой пути патогенеза отличались от описанных выше. Данное предположение не получило подтверждения, но привело к определению понятий ранней и поздней преэклампсии, ранней и поздней задержки роста плода. Наличие определенных заболеваний и состояний, которые являются факторами риска для развития БАС на фоне формирования плаценты, приводит к более позднему и неполному запуску путей патогенеза [9].
Также имеются данные об изменении церебрального кровотока у пациентов с преэклампсией, в том числе в вертебробазилярной и каротидной системах, со снижением резерва церебральной сосудистой ауторегуляции [13], средней мозговой артерии [14]. У пациентов с преэклампсией также определяется венозная гипертензия, причем чаще в случае ранней формы [15]. Указанные изменения также могут определять отдаленные последствия перенесенного акушерского осложнения.
Сердечно‑сосудистые заболевания – лидирующая причина смертности женщин в мире, приводящая практически к каждой третьей смерти. Популяционный риск смертности вследствие сердечно‑сосудистых заболеваний у женщин выше, чем у мужчин, составляя 21 и 15% соответственно. Следует отметить, что имеется значительное снижение общей смертности вследствие сердечно‑сосудистых заболеваний в мире, но темпы снижения в женской популяции значительно ниже. Имеются данные, что развитие БАС предрасполагает к формированию сердечно‑сосудистых заболеваний в дальнейшем [16].
Преэклампсия
Преэклампсия является наиболее исследованным БАС в части отдаленных последствий [17]. У пациенток, перенесших преэклампсию, имеются повышенные риски развития сердечно‑сосудистых заболеваний (отношение рисков 1,3) и артериальной гипертензии (отношение рисков 4,1). Повторные случаи преэклампсии у пациенток повышают риски развития сердечно‑сосудистых заболеваний на 15%, а артериальной гипертензии – на 46% [18].
Артериальная гипертензия, которая является одним из определяющих критериев диагноза, сохраняется в течение длительного времени (относительный риск 3,5) [17]. В течение 6 месяцев после родоразрешения повышение артериального давления диагностируется у 36–71% пациенток [19, 20]. При этом, по данным исследований, на сохранение гипертензии не влиял выбор акушерской тактики, но имели влияние индекс массы тела и возраст родильницы, то есть исходное состояние сердечно‑сосудистой системы [20]. Шансы развития гипертензии в течение второго полугодия первого года после родоразрешения после перенесенной преэклампсии в 4 раза выше [21]. Максимальный риск развития артериальной гипертензии сохраняется в течение 5 лет после родоразрешения [17]. Артериальная гипертензия сохраняется в течение 10‑летнего наблюдения у половины пациенток [22]. Через 6 месяцев после родоразрешения у 10% пациенток выявляется снижение систолической
функции сердца[20]. Диастолическая дисфункция обнаруживается у 49–61% пациенток; причем вероятность ее развития тем больше, чем меньше срок развития преэклампсии, меньше масса тела ребенка при рождении [19, 20]. Ремоделирование миокарда левого желудочка (увеличение его массы) выявляется у 61% пациенток. При развитии преэклампсии на фоне хронической артериальной гипертензии риск развития патологии выше, что связано с длительным воздействием повышенного артериального давления на стенки желудочка [19].
Риски развития ишемической болезни сердца также повышены в 2 раза [17].
Женщины, перенесшие преэклампсию, имеют повышенный риск смерти вследствие сердечно‑сосудистых заболеваний в течение 18‑летнего наблюдения (относительный риск 1,7–2,1), а преждевременные роды на фоне преэклампсии повышают риск в 6,0–7,0 раза. Первое сердечно‑сосудистое событие происходит в течение 9 лет у 2,8% пациенток с преэклампсией и у 1,4% – без нее [16].
Имеются данные, что инфаркт миокарда без обструктивного поражения коронарных артерий развивается чаще у пациенток с перенесенной преэклампсией в сравнении с отсутствием отягощенного анамнеза (64% против 43%) [23]; при этом относительный риск в 1,8–4,2 раза выше [24, 25].
Относительный риск развития ишемического инсульта у пациентки, перенесшей преэклампсию, в 1,8–3,8 раза выше, чем у женщины без отягощенного анамнеза [26].
Перенесенная преэклампсия также снижает эффективность операций по реваскуляризации коронарных сосудов, удваивая риск смерти до 2,2 на 100 человек в год в течение 5‑летнего периода [27].
Риск развития сердечно‑сосудистой смертности в течение 30 лет также значительно повышен [21].
Патогенетическим обоснованием развития сердечно‑сосудистых событий является сохраняющаяся эндотелиальная дисфункция. Так, через 10 лет после родоразрешения пациенты, перенесшие преэклампсию, имеют повышенные уровни маркеров эндотелиальной дисфункции. При этом при рождении маловесного ребенка повышены уровни предшественников оксида азота (асимметричного диметиларгинина, L‑аргинина и гомоаргинина), а при рождении ребенка, соответствующего сроку беременности по массе, – уровни sFlt‑1 [28]. Это различие может отражать различия в патогенезе ранней и поздней преэклампсии.
Задержка роста плода
Около 30% случаев задержки роста плода сопровождаются преэклампсией и являются ее диагностическим критерием. Задержка роста плода, манифестировавшая на сроках менее 32+0 недель, ассоциирована с гипертензивными расстройствами; на сроках 32+0 недель и более не имеет четкой ассоциации с артериальной гипертензией [29].
В исследованиях отмечается повышение риска развития сердечно‑сосудистых заболеваний у пациенток с задержкой роста плода, диагностированной как во время беременности (относительный риск 1,4–2,6), так и по факту рождения маловесного ребенка (относительный риск 1,2–2,2). При рождении ребенка с задержкой роста плода на сроках менее 37+0 недель риски развития сердечно‑сосудистых заболеваний у матери увеличиваются в 3,0 раза [30].
Следует отметить, что риски развития сердечно‑сосудистых событий при задержке роста плода не связаны с сопутствующими рисками (курение, повышенная масса тела, возраст пациентки, наличие хронической артериальной гипертензии, сахарного диабета) [16].
Риски развития эхографических изменений в сердце аналогичны для пациенток с задержкой роста плода без гипертензивных расстройств и с сопутствующей преэклампсией. У пациенток выявляются систолическая и диастолическая дисфункция сердца, ремоделирование миокарда левого желудочка, снижение систолической функции правого желудочка [31].
Клинические проявления патологии сердечнососудистой системы развиваются чаще при развитии задержки роста плода на фоне преэклампсии (относительный риск 2,8), а при повторных случаях – в 2 раза выше [16].
Преждевременные роды
Родоразрешение на сроках менее 37+0 недель, ассоциированное с преэклампсией и задержкой роста плода, повышает риски сердечно‑сосудистых осложнений у женщины в будущем [19, 20, 30, 32]. Риск развития сердечно‑сосудистых заболеваний после преждевременных родов с поправкой на сопутствующие акушерские осложнения также высок (относительный риск 1,2–1,7) [33, 34].
Большое статистическое исследование в США по оценке риска развития сердечно‑сосудистых событий (инфаркт миокарда, стенокардия, ишемический инсульт, транзиторная ишемическая атака) с учетом преждевременных родов показало, что в течение 50 лет после первых преждевременных родов относительный риск составляет 1,4. При повторных преждевременных родах риск увеличивался до 1,6. При рождении ребенка на сроках менее 32+0 недель относительный риск составлял 2,0, в том числе у пациенток без сопутствующих гипертензивных осложнений [35]. Для популяции Норвегии риск сердечно‑сосудистой смертности выше в 1,8 раза после преждевременных родов [36]. Сверхранние преждевременные роды повышают риск развития артериальной гипертензии в течение 10 лет после родоразрешения в 2,2 раза [37].
Преждевременный разрыв плодных оболочек
На сегодня не опубликовано данных по отдаленным последствиям преждевременного разрыва плодных оболочек для матери. При этом, учитывая общность патогенеза, следует предполагать схожие результаты.
Интересно, что гемодинамика пациентов с преждевременным разрывом плодных оболочек в течение родов изменяется. В том числе в сравнении с пациентками с целыми водами отмечается больший сердечный выброс (9,1±2,3 против 7,1±0,85), меньшее сосудистое сопротивление (792,1±162 против 1006,2±110,7), большая частота сердечных сокращений (97,5±15,4 против 82,4±12,0) [38].
Сердечно-сосудистый риск до беременности
Исследования показывают, что риски сердечно‑сосудистых заболеваний у женщин с преэклампсией без традиционных факторов риска в 6 раз меньше, чем у женщин с их наличием [16].
При этом отмечается, что такие риски, как артериальное давление, уровень липидов и глюкозы крови натощак, незначительно различались до и во время беременности у пациенток с наличием гипертензивных акушерских осложнений и без них [39]. У пациенток с преэклампсией в данную беременность отмечаются более высокие уровни гликированного гемоглобина, глюкозы, липопротеинов низкой плотности, триглицеридов и аланинаминотрансферазы, более низкие уровни липопротеинов высокой плотности в сравнении с пациентками без гипертензивных осложнений. За 10 лет до беременности у пациенток отмечаются годовые повышения уровней триглицеридов в 13,8 раза и глюкозы в 1,6 раза, годовые снижения уровня липопротеидов высокой плотности в 9,7 раза в сравнении с пациентками без осложнений [40].
У пациенток с задержкой роста плода отмечаются более низкие уровни глюкозы и триглицеридов до беременности, но указанные изменения не определяются за 10 лет до беременности [41]. Следует отметить, что механизм формирования сердечно‑сосудистого риска при задержке роста плода, вероятно, не связан с липидным профилем, так как большие уровни атерогенных липидов приводят к рождению большего по массе плода [30].
У женщин с преждевременными родами до беременности отмечаются такие же изменения, как и при преэклампсии, в сравнении с пациентками, родившими в срок. За 10 лет до наступления беременности у пациенток с преждевременными родами отмечаются годовые повышения уровней гликированного гемоглобина в 0,7 раза, триглицеридов – в 7,9 раза и аланинтрансферазы – в 2,2 раза [41].
Таким образом, развитие БАС может быть определено исходными неблагополучными изменениями в организме женщины, которые во многом определяют их развитие. Также, вероятно, развитие БАС является триггером формирования сердечно‑сосудистых заболеваний, которые могли бы не развиться у пациенток в отсутствие беременности.
Диспансерное ведение женщин с рисками сердечно-сосудистых заболеваний
Раннее выявление сердечно‑сосудистых заболеваний позволяет не только повысить качество жизни, но и имеет финансовый эффект для системы здравоохранения. Так, ориентировочная стоимость для здравоохранения Соединенных Штатов Америки сердечно‑сосудистых заболеваний, развившихся у женщин в течение 5 лет после перенесенных БАС, составляет 63 млн долларов США, увеличивая стоимость наблюдения и лечения пациентов в 5 раз [42]. При этом даже в США 32–38% пациентов с сердечно‑сосудистыми заболеваниями не выявляются до 40 лет [43], а уровни диспансерного наблюдения крайне низкие. По результатам исследования, только 18% беременных с гипертензивными расстройствами во время беременности, 23% – с хронической артериальной гипертензией посетили врача общей практики в течение 6 месяцев после родов. Только 16% пациенток, перенесших тяжелую преэклампсию, наблюдались после родоразрешения [44].
Авторами предлагается использовать для обследования «IV триместр» – 12 недель после родоразрешения, за которые необходимо провести мероприятия по наблюдению за имеющимися заболеваниями, выявить симптомы частых послеродовых осложнений, определить риски сердечно‑сосудистых осложнений. Для этого предлагается использовать, в том числе, обучение пациентов, консультирование по образу жизни, стратификацию риска и дистанционные технологии, в том числе самоконтроль артериального давления, удаленное мониторирование активности [45]. Так, Society for Maternal‑Fetal Medicine предлагает использовать специально разработанные чек‑листы [46].
Оценка риска сердечно‑сосудистых заболеваний может проводиться с использованием разных шкал риска, но эти шкалы не учитывают акушерский анамнез. Добавление к шкале Framingham Cardiovascular Risk Score данных по анамнезу БАС повышает диагностическую ценность на 20% [47].
В клинических рекомендациях American College of Cardiology/American Heart Association 2019 г. преэклампсия впервые указана как фактор, усугубляющий риск, позволяющий расширить показания для назначения статинов у пациентов пограничного или промежуточного риска [48]. Расширяя рекомендации в Scientific Statement, предлагается использовать диету для здоровья сердца и сосудов, увеличить физическую нагрузку с момента родоразрешения на весь период жизни. Поддержание лактации и кормления грудью может позволить снизить кардиометаболический риск [49]. Данные рекомендации подтверждаются и в других публикациях [50, 51].
Крайне важно врачам акушерам‑гинекологам родильных домов предоставлять полноценную информацию в медицинских документах для обеспечения преемственности между стационарным и амбулаторным звеном в части осложнений беременности [51].
В Российской Федерации пациенты, перенесшие БАС, не включены в Порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми, утвержденный Минздравом России приказом от 15.03.2022 № 168н. В клинических рекомендациях, одобренных Научно‑практическим советом Минздрава России и опубликованных на странице Рубрикатора клинических рекомендаций Минздрава России в сети Интернет, не указываются рекомендации по послеродовому диспансерному наблюдению за пациентками, перенесшими БАС.
В клинических рекомендациях «Артериальная гипертензия у взрослых» (ID 62, 2020 г.) наличие артериальной гипертензии во время беременности указано среди факторов риска развития заболевания. В клинических рекомендациях «Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых» (ID 171, 2021 г.) беременность и послеродовый период указаны как факторы риска развития заболевания. При этом отсутствуют рекомендации по интерпретации данной информации.
Заключение
БАС являются значимыми осложнениями беременности не только с позиций перинатального исхода, развития критических акушерских ситуаций, но и возникновения отдаленных последствий. Представленные в настоящем обзоре данные свидетельствуют о высокой частоте развития сердечно‑сосудистых заболеваний после перенесенных акушерских осложнений. Вместе с тем вопросы последующего диспансерного наблюдения и реабилитация, при всей своей очевидности, пока не получили развития. Разработка методологии, форм внедрения и рекомендаций по реабилитации, основанных на междисциплинарном взаимодействии и преемственности, может стать новым направлением научных исследований и организационных решений этой важной проблемы.