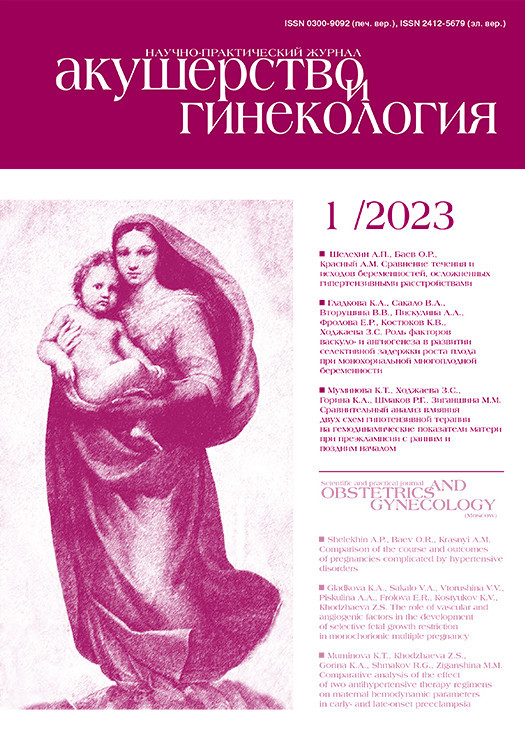В популяции синдром поликистозных яичников (СПЯ) выявляют у 8–20% женщин репродуктивного возраста. Диагностируют СПЯ на основании Роттердамских критериев ASRM/ESHRE (2003), к которым относят: гиперандрогению (клиническую и/или биохимическую), олиго- и/или ановуляцию, поликистозную морфологию яичников по данным ультразвукового исследования. Согласно международным (International PCOS Network (2018)) и российским клиническим рекомендациям (2021), сочетание двух или более признаков из трех основных критериев диагностики данного заболевания определяет фенотип СПЯ [1, 2]. Принято считать, что у женщин с СПЯ часто встречаются ожирение, избыточная масса тела, сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе. Резистентность к инсулину играет важную роль в патогенезе СПЯ. Согласно российским и международным клиническим рекомендациям, всем пациенткам с СПЯ следует выполнять обследование, направленное на выявление метаболических нарушений, а также определять факторы риска развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний [2]. Исследование гликемического статуса, липидного профиля, выявление артериальной гипертензии, висцерального или абдоминального ожирения позволяют своевременно диагностировать метаболический синдром у пациенток с СПЯ [3]. Персонифицированный подход к обследованию женщин репродуктивного возраста, учитывающий фенотип СПЯ, является определяющим в выборе стратегии лечения данных пациентов [4]. Основной из рекомендуемых стратегий лечения СПЯ, представленных в российских клинических рекомендациях и международных руководствах, является терапевтическая многокомпонентная модификация образа жизни, включающая рациональное сбалансированное питание, дозированную физическую нагрузку. Кроме того, в Кохрейновском обзоре (2019) было показано, что некоторые из репродуктивных, метаболических и психологических особенностей СПЯ могут быть обратимы при изменении образа жизни [5].
Метаболические изменения и нарушения углеводного обмена часто ассоциированы с дефицитом или недостаточным содержанием в организме женщины витамина D, полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) омега-3, инозитола и др. Дефицит витамина D и омега-3 ПНЖК является наиболее распространенным состоянием, связанным с недостаточным потреблением данных микронутриентов в популяции. Дефицит и недостаточность витамина D являются глобальной проблемой современного здравоохранения. У более чем миллиарда взрослых и детей во всем мире выявляется низкое содержание витамина D [6]. Проведенные исследования по изучению частоты встречаемости в Российской Федерации дефицита и недостаточности витамина D продемонстрировали, что в сыворотке крови у 70–95% взрослых определяются сниженные уровни витамина D [7, 8].
Глобальное исследование омега-3 жирных кислот (докозагексаеновой кислоты (ДГК, или DHA) и эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК, или EPA)) в крови здоровых взрослых продемонстрировало, что 80% людей во всем мире имеют низкий уровень омега-3 кислот [9]. Недавнее российское исследование также выявило высокую распространенность дефицита омега-3 жирных кислот во всех возрастных группах. Дефицит омега-3 ПНЖК был обнаружен у 75,4% обследованных пациентов в Российской Федерации [10]. Известно, что микронутриенты и биологически активные вещества могут участвовать в процессах стероидогенеза, метаболизме липидов, транспорте глюкозы, инсулина, эпигенетической регуляции, модифицируя воспалительные и антиоксидантные процессы у женщин с СПЯ. Более широкое использование витаминов и пищевых добавок у женщин с СПЯ привело к быстрому росту числа новых исследований, изучающих преимущества данных методов лечения. В представленном обзоре мы стремились обобщить и оценить последние данные рандомизированных контролируемых исследований и систематических обзоров или метаанализов в отношении эффективности приема витамина D и омега-3 ПНЖК в лечении СПЯ. Коррекция дефицита микронутриентов является важным дополнительным методом в комплексной стратегии данного заболевания. Своевременная коррекция метаболических изменений, нарушений углеводного обмена, избыточной массы тела и ожирения является долгосрочной тактикой ведения пациенток с СПЯ.
Витамин D и синдром поликистозных яичников
Витамин D, синтезируемый под действием ультрафиолетовых лучей в коже и поступающий из пищи, относится к жирорастворимым витаминам. Две формы витамина D: витамин D3 (холекальциферол) и D2 (эргокальциферол) являются биологически инертными. В печени обе формы преобразуются в результате гидроксилирования в 25(ОН)D3 или 25(ОН)D2 – суммарно обозначаемые как 25-гидроксивитамин D [25(OH)D] или кальцидиол. Основная часть циркулирующего витамина D представлена кальцидиолом (25(OH)D) и отражает общие запасы данного витамина в организме человека. Кроме того, 25-гидроксивитамин D [25(OH)D] является субстратом для преобразования в активную форму – кальцитриол (1,25(ОН)2D) под действием фермента 25(ОН)D1-альфа-гидроксилазы. Именно 1,25-дигидроксивитамин D [1,25(OH)2D] относится к физиологически активному D-гормону, связываясь с клеточными рецепторами и участвуя в регуляции уровня кальция и фосфора в крови. Основные действия кальцитриола (1,25(OH)2D) реализуются при связывании со своим рецептором витамина D (VDR), являющимся одним из важных регуляторов транскрипции и взаимодействующим с ретиноидным X-рецептором. Синтез основного количества активного метаболита витамина 1,25-дигидроксивитамина D (1,25(OH)2D) осуществляется в почках на уровне проксимальных канальцев [11]. Кроме того, кальцитриол образуется в тканях и клетках, способных экспрессировать гены CYP27B1 для синтеза 1α-гидроксилазы (в слизистой оболочке кишечника, эндотелии сосудов, паратиреоидных железах, костной ткани, плацентарной ткани), а также синтезируется в иммунных, эпителиальных клетках. Регуляция внепочечной 1-гидроксилазы отличается от таковой в почках и включает цитокины. Активность почечного фермента CYP27B1 определяет уровень кальцитриола в крови. Паратиреоидный гормон, фактор роста фибробластов 23 (FGF23), кальций и фосфат являются основными регуляторами почечной 1α-гидроксилазы [12].
По современным Российским клиническим рекомендациям, уровень общего 25(ОН)D в сыворотке крови от 20 до 30 нг/мл (от 50 до 75 нмоль/л) расценивают как недостаточное содержание витамина D. Дефицитным состоянием витамина D у взрослых считается, если в сыворотке крови уровень общего 25(ОН)D определяется менее 20 нг/мл (50 нмоль/л). К тяжелому гиповитаминозу относят содержание витамина D менее 10 нг/мл. При коррекции дефицита витамина D целевые значения уровня общего 25(ОН) должны соответствовать диапазону 30–60 нг/мл (75–150 нмоль/л). Содержание 25-гидроксивитамина D 30–100 нг/мл (75–250 нмоль/л) также считается адекватным уровнем [13].
Принято считать, что дефицит витамина D ассоциирован как с патологическими изменениями в кальциево-фосфорном обмене, так и с развитием сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний и метаболическими нарушениями. Известна позитивная роль витамина D в антипролиферативных, противовоспалительных, иммунных процессах. Эпигенетическая регуляция витамином D при данных состояниях реализуется через экспрессию генов, кодирующих белки, участвующих как в модуляции клеточного роста, так и апоптозе [14].
В ранее проведенных исследованиях было показано, что низкие уровни витамина D в сыворотке крови женщин с СПЯ ассоциированы с фенотипическими проявлениями и метаболическими нарушениями при этом заболевании [15, 16]. Инсулинорезистентность (ИР) является одним из наиболее специфических признаков СПЯ [17, 18] и связана как с гиперандрогенией, метаболическими нарушениями, так и нарушением репродуктивной функции. Имеющиеся данные свидетельствуют о связи между патогенезом ИР и дефицитом витамина D у женщин с СПЯ [19]. Рецептор витамина D экспрессируется практически во всех тканях и регулирует около 3% генома человека, включая гены, кодирующие метаболизм глюкозы [20]. Регулирующее действие витамина D на секрецию инсулина связывают с влиянием витамина D на уровень внутриклеточного и внеклеточного кальция, который необходим для инсулин-опосредованных внутриклеточных процессов [13]. Кроме того, стимулирующее действие витамина D ассоциировано с влиянием на экспрессию инсулиновых рецепторов и повышением чувствительности к инсулину. Известно, что рецептор витамина D присутствует в промоторе гена инсулина человека [21]. Определено, что у пациентов с СПЯ повышены ключевые маркеры окислительного стресса, такие, как оксид азота, малоновый диальдегид, в том числе гликотоксины – конечные продукты неферментативного гликирования белков (КПГ). Многофакторный патологический процесс гликирования связан с необратимым перекрестным связыванием белков, приводящим к апоптозу клетки. Предотвращение повреждающего действия гликотоксинов на клетку достигается при взаимодействии КПГ со своим рецептором-ловушкой еще до проникновения в клеточную мембрану. Изоформа рецептора КПГ является внеклеточным растворимым рецептором для КПГ (sRAGE). Высокий уровень растворимого рецептора КПГ препятствует развитию необратимых патологических процессов в клетке в результате неферментативного гликирования белков. Однако при гипергликемии и ожирении определяется сниженный уровень растворимого рецептора КПГ (sRAGE).
В патогенезе метаболических нарушений при СПЯ известна негативная роль КПГ. В ранее проведенных исследованиях было показано, что в сыворотке крови у женщин с СПЯ определяются избыточные уровни КПГ, тогда как защитные уровни растворимых рецепторов для КПГ белков (sRAGE) были снижены. Считается, что витамин D обладает противовоспалительным действием и, как было показано, оказывает защитное действие против воспалительного действия КПГ. Кроме того, исследование показало, что уровень sRAGE в фолликулярной жидкости у пациенток с СПЯ значительно ниже, чем у здоровых женщин. Применение 1,25-дигидроксивитамина D3 для коррекции дефицита витамина D у женщин с СПЯ было связано с повышением в сыворотке крови защитного уровня растворимого рецептора КПГ (sRAGE) [22]. В нашем исследовании у женщин с гиперандрогенными фенотипами СПКЯ и нарушениями углеводного обмена, а также с дислипидемией были обнаружены сниженные уровни растворимого рецептора КПГ в сыворотке крови [23]. В работе Merhi Z. et al. (2018) было обнаружено, что обработка культивированных гранулезных клеток витамином D3 снижала в них экспрессию мРНК КПГ на 33% и уменьшала на 44% содержание КПГ [24]. В работе Davis E.M. et al. (2019 г) было показано, что более высокая распространенность дефицита витамина D была у женщин с СПЯ и гиперандрогенией [15]. В другом плацебо-контролируемом исследовании у женщин с СПЯ (гиперандрогенным фенотипом В) и дефицитом витамина D (уровень общего 25(ОН)D в сыворотке крови менее 20 нг/мл) было продемонстрировано, что применение добавок витамина D в течение 12 недель способствовало снижению уровня глюкозы в плазме натощак, инсулина, индекса HOMA-IR, а также привело к повышению чувствительности к инсулину [25].
Ранее проведенные многочисленные исследования связывали дефицит витамина D с изменением сывороточных уровней глобулина, связывающего половые гормоны, индекса свободных андрогенов, тестостерона, дегидроэпиандростерона. Применение добавок витамина D у женщин с СПЯ и гиперандрогенемией способствовало снижению уровня общего тестостерона и андростендиона, а также способствовало повышению чувствительности к инсулину у женщин с дефицитом витамина D и СПЯ [26].
Таким образом, благоприятное влияние приема витамина D на маркеры метаболизма инсулина, липидные профили, биомаркеры воспаления и окислительного стресса может быть опосредовано его влиянием на активацию экспрессии рецепторов инсулина, подавление образования цитокинов, снижение продукции реактивного кислорода и провоспалительные маркеры.
Омега-3 и синдром поликистозных яичников
ПНЖК омега-3 и омега-6 не образуются в организме человека и являются незаменимыми факторами питания. ЭПК, ДГК и альфа-линоленовая кислоты представляют собой длинноцепочечные ПНЖК омега-3. Линолевая и арахидоновая кислоты относятся к омега-6 ПНЖК [27]. ЭПК и ДГК являются двумя основными длинноцепочечными ПНЖК омега-3 морского происхождения. Их потребление и высокие уровни в крови связаны с положительным влиянием на организм. Благоприятные эффекты применения омега-3 продемонстрированы в различных исследованиях, убедительно доказавших снижение смертности от всех причин [28, 29], низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний [30], выраженное системное противовоспалительное действие, а также регуляцию нормального иммунного ответа [31]. По данным Кохрейновского обзора 2018 г., прием ЭПК и ДГК во время беременности приводит к снижению частоты выкидышей и преждевременных родов, а также улучшает интеллектуальные способности будущего ребенка, снижает риск преждевременных родов [32]. ПНЖК являются важными компонентами клеточных мембран и участвуют в различных метаболических реакциях. Кроме того, омега-3 жирные кислоты и их производные являются сигнальными молекулами [33]. ПНЖК омега-3 (ЭПК и ДГК) способствуют снижению уровня триглицеридов путем прямого ингибирования диацилглицерол-ацетилтрансферазы печени. Другие молекулярные эффекты проявляются путем ингибирования фермента, участвующего в процессах митохондриального и пероксисомального окисления в печени, повышая активность липопротеинлипазы плазмы, снижая уровень липопротеинов. Кроме того, ЭПК и ДГК ПНЖК способствуют увеличению таких простаноидов, как простациклин, обладающих антиагрегационными и сосудорасширяющими свойствами. Омега-3 являются предшественниками синтеза специализированных медиаторов, обладающих противовоспалительными свойствами, а также снижают уровень провоспалительных цитокинов: интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли-α. Кроме того, ЭПК и ДГК ПНЖК ингибируют активацию киназы ядерного фактора-κB (NF-κB) и других факторов транскрипции, блокирующих активные формы кислорода [34].
Известно, что омега-3 ПНЖК (ЭПК и ДГК) оказывают положительное влияние на репродуктивную функцию у женщин, принимающих ЭПК и ДГК [35]. ПНЖК омега-3 и омега-6 могут участвовать в регуляции репродуктивной функции, поскольку они влияют как на синтез простагландинов, так и на стероидогенез. Несколько исследований показали, что более высокие уровни жирных кислот омега-3 могут улучшить функцию яичников и фертильность. Увеличение частоты наступления беременности наблюдалось у женщин с более высоким уровнем жирных кислот омега-3 в сыворотке крови [36]. Омега-3 жирные кислоты играют важную роль в иммунной регуляции, чувствительности к инсулину, клеточной дифференцировке и овуляции. ЭПК и ДГК, улучшающие чувствительность к инсулину и снижающие ИР, являются важными компонентами терапии СПЯ.
Положительное влияние омега-3 ПНЖК на ИР может быть частично связано с их ролью в передаче сигналов инсулина и экспрессии генов. Омега-3 ПНЖК могут защищать толерантность к глюкозе и предотвращать накопление биоактивных липидных медиаторов путем усиления экспрессии мРНК инсулин-стимулированного переносчика глюкозы-4, субстрата рецептора инсулина-1 и гликогенсинтазы-1 [37]. Кроме того, за счет снижения стресса эндоплазматического ретикулума, усиления β-окисления митохондриальных жирных кислот и митохондриального разобщения, а также ограничения отложений липидов и образования активных форм кислорода омега-3 ПНЖК могут дополнительно улучшать чувствительность к инсулину [38]. Ожирение и ИР являются характеристиками хронического воспаления, опосредованного макрофагами. Омега-3 ПНЖК могут блокировать как толл-подобные рецепторы, так и рецепторы, связанные с фактором некроза опухоли, способствуя экспрессии генов, стимулирующих общее противовоспалительное действие в жировой ткани. Данный механизм подавления опосредован сигнальным рецептором 120, ассоциированным с G-белком –эндогенным лигандом рецепторов ПНЖК [39]. Известно, что омега-3 ПНЖК могут улучшить чувствительность к инсулину за счет снижения продукции воспалительных цитокинов, включая фактор некроза опухоли-α и интерлейкин-6, а также за счет увеличения секреции противовоспалительного адипонектина у пациенток с СПЯ. Эта регуляция может быть связана с влиянием на активацию киназы NF-κB, одного из основных факторов транскрипции, участвующих в активации генов, кодирующих провоспалительные цитокины, молекулы адгезии и циклооксигеназу-2. Так, ЭПК снижает липополисахарид-индуцированную активацию NF-κB в моноцитах, а ДГК уменьшает активацию NF-κB в ответ на липополисахарид в макрофагах и дендритных клетках. Метаанализ 9 рандомизированных клинических исследований 2018 г. показал, что добавление омега-3 жирных кислот (900–4000 мг/день) в течение 6–24 недель улучшило показатели индекса HOMA-IR, общего холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности у женщин с СПЯ [40]. В систематическом обзоре и метаанализе Tosatti J.A.G. et al. (2021) было изучено влияние добавок омега-3 жирных кислот на маркеры воспалительного и окислительного стресса у пациентов с СПЯ. Авторы проанализировали данные 323 исследований, где было показано, что добавки с омега-3 жирными кислотами могут уменьшить воспалительное состояние у женщин c СПЯ за счет снижения уровня высокочувствительного С-реактивного белка и повышения уровня адипонектина [41]. Более того, гипоадипонектинемия связана с более высокой степенью гиперинсулинемии и ИР. Следовательно, это может быть связано не только с ожирением, но и с метаболическими изменениями, характерными для СПЯ [42]. В ранее проведенных исследованиях in vitro на культуре клеток гранулезы, обработанных 25–100 мкг ЭПК, были выявлены повышенная экспрессия инсулиноподобного фактора роста 1 и сниженная экспрессия циклооксигеназы 2. Известно, что данные биологически активные вещества необходимы для дифференцировки фолликулов и созревания ооцитов [43].
Известно, что содержание ПНЖК в клеточных мембранах зависит от достаточного поступления данных незаменимых кислот с пищей. К объективным параметрам, отражающим долгосрочный статус применения ЭПК и ДГК, относится индекс омега-3, который рассчитывается как суммарный процент ЭПК и ДГК от общего количества жирных кислот в мембранах эритроцитов, определяемый методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией. Известно, что диапазон индекса омега-3 выше 8% связан с наиболее низким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний [44].
В исследовании Беспаловой О.Н. и соавт. (2022) было показано, что низкий индекс омега-3 (<8%) определяется у 91% женщин с репродуктивными потерями и бесплодием. Кроме того, в работе было выявлено, что значение индекса омега-3 изменяется в зависимости от уровня витамина D. Так, у женщин с дефицитом витамина D медианный уровень индекса омега-3 был самым низким и составлял 4,2 (3,8; 4,6)% [45].
Недавнее китайское исследование показало, что у женщин с СПЯ индекс HOMA-IR, жировая масса и процентное содержание жира снижались по мере увеличения циркулирующих уровней общих и омега-3 ПНЖК в сыворотке крови. Более высокие уровни омега-3 ПНЖК в пище и сыворотке, особенно длинноцепочечных омега-ПНЖК (ЭПК и ДГК), могут оказывать благотворное влияние на метаболические параметры и состав тела у пациенток с СПЯ [46]. Известно, что сочетанное применение витамина D c ПНЖК омега-3 (ЭПК и ДГК) оказывает синергетическое положительное действие на женскую репродуктивную систему, а также на развитие плода во время беременности.
К таким препаратам (биологически активная добавка) относится российский препарат «Детримарин», производимый ООО «Полярис». В одной капсуле Детримарина содержится 2000 МЕ витамина D3 и 450 мг омега-3 кислот, из которых 395 мг находятся в виде высокоочищенных форм ЭПК (содержится 275 мг) и ДГК (содержится 120 мг).
Согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (глава II, раздел 1, Приложение 5), норма физиологической потребности/адекватный уровень потребления для ПНЖК омега-3 составляет 2000 мг в сутки: ЭПК – 600 мг; ДГК – 700 мг в сутки [47]. По рекомендациям, определяющим нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации, уровень суммарного потребления ЭПК и ДГК должен быть не менее 250–500 мг в день.
Регрессионный метаанализ 40 исследований с общим числом участников 135 267 человек, опубликованный в 2021 г., показал, что прием пищевых добавок омега-3 ПНЖК – ЭПК+ДГК в дозе 800–1200 мг/сут связан со снижением риска инфаркта миокарда и смертности от ишемической болезни сердца [48].
Препаратами для профилактики дефицита витамина D являются холекальциферол (D3) и эргокальциферол (D2). У взрослых лечение дефицита витамина D следует начинать с общей суммарной насыщающей дозы холекальциферола 400 000 МЕ (ежедневная доза холекальциферола 6000–8000 МЕ в течение 8 недель) с дальнейшим переходом на поддерживающие дозы 1000–2000 МЕ в сутки [13]. Коррекция недостаточности витамина D рекомендуется с использованием половинной суммарной насыщающей дозы холекальциферола, равной 200 000 МЕ (ежедневная доза холекальциферола 6000–8000 МЕ в течение 4 недель) с дальнейшим переходом на поддерживающие дозы. Длительность поддерживающей терапии для взрослых с целевым достигнутым или исходным уровнем витамина D может быть различной. У пациентов, принимающих препараты, нарушающие метаболизм витамина D, с синдромами мальабсорбции, ожирением возможен прием более высоких доз холекальциферола. Так, на курс лечения дефицита витамина D суммарная насыщающая доза холекальциферола может составлять 800 000–1 200 000 МЕ в течение 8 недель, а для коррекции недостаточности витамина D рекомендуется применение 400 000–600 000 МЕ в течение 4 недель с дальнейшим переходом на поддерживающую дозу не менее 3000–6000 МЕ в сутки [13].
Таким образом, ежедневный прием 3–4 капсул Детримарина в день у женщин с СПЯ и метаболическими нарушениями для поддержания оптимальных уровней витамина D (30 нг/мл) и ПНЖК обеспечивает ежедневное поступление витамина D 6000–8000 МЕ в сутки, а суммарное количество ПНЖК (омега-3) в виде высокоочищенных форм ЭПК и ДГК – 1580 мг.
Заключение
Применение препаратов, влияющих на стероидогенез, ИР, метаболизм липидов, коррекцию воспаления в сочетании с основными методами лечения и терапевтической модификацией образа жизни могут предотвращать развитие неблагоприятных репродуктивных и метаболических нарушений у женщин с СПЯ.