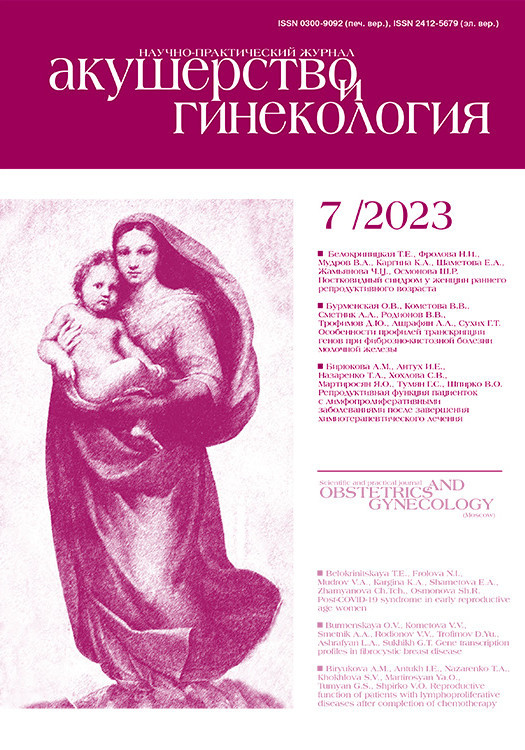Современные социальные условия задают новые тренды на изменение возрастной модели рождаемости. В развитых и развивающихся странах растет число женщин, которые откладывают реализацию репродуктивной функции на более поздний возраст, что создает ряд медицинских и социальных проблем. Поздний репродуктивный возраст является одним из главных неблагоприятных факторов успешного зачатия как естественным путем, так и при применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) [1]. Кроме того, беременность у женщин позднего репродуктивного возраста сопряжена с высокими рисками перинатальных осложнений [2]. По данным систематического обзора и метаанализа Saccone G. et al. (2022) было показано, что у женщин старше 40 лет значительно выше риск мертворождения, перинатальной и неонатальной смертности, задержки роста плода, пребывания в отделении интенсивной терапии, преэклампсии, преждевременных родов, кесарева сечения и материнской смертности [3]. Данная возрастная когорта женщин наиболее часто сталкивается с неудачами при применении различных методов лечения бесплодия, что связано с особенностями функционирования репродуктивной системы и наличием сопутствующих соматических и гинекологических заболеваний [4]. Несмотря на то что старение репродуктивной системы у женщин напрямую связано с изменением количества и качества ооцитов, механизмы его реализации сложны и тесно связаны с системой многочисленных вне- и внутриклеточных процессов [5]. К физиологическому старению яичников относится возрастное угасание овариальной функции, а снижение овариального резерва, преждевременная недостаточность яичников и бедный ответ на стимуляцию овуляции в программах ВРТ являются патологическими процессами [6].
В патогенез старения яичников вовлечены многочисленные механизмы. Большинство из них являются генетически детерминированными процессами, которые регулируются каскадом сигнальных путей, контролирующих функционирование различных типов клеток яичника [7, 8]. Помимо генетических факторов, большое значение имеет окислительный стресс, который является важным участником мультифункциональных внутриклеточных сигнальных путей, через которые реализуются механизмы снижения активности яичников, количества и качества ооцитов [9–11]. Поскольку основными источниками активных форм кислорода являются митохондрии, их дисфункция напрямую связана с нарушениями процессов фолликулогенеза и созревания ооцитов [12, 13]. Число копий митохондриальной ДНК и митохондриальная функция последовательно снижаются с увеличением хронологического возраста [14]. Несмотря на то что роль митохондрий в овариальном старении остается не до конца изученной, их значение в процессах апоптоза и дисбалансе циркулирующих гормонов и пептидов хорошо известно [14, 15]. Помимо вышеописанных механизмов, у женщин позднего репродуктивного возраста чаще наблюдается отягощенный гинекологический анамнез, который служит фактором риска бесплодия, в том числе ятрогенной природы [16].
Одним из ведущих факторов неблагоприятных исходов программ ВРТ является увеличение частоты хромосомных аномалий эмбриона, что представляет сложную клиническую задачу для врачей акушеров-гинекологов и эмбриологов [17]. Так, у женщин старше 42 лет для получения одного эуплоидного эмбриона требуется забор как минимум 20 ооцитов [18]. Несмотря на эти данные, в клинической практике врачи сталкиваются со случаями, при которых данные паттерны не реализуются. Ниже представлено клиническое наблюдение успешного лечения бесплодия с применением ЭКО по короткому протоколу с антагонистами гонадотропин-рилизинг-гормона (антГнРГ) с собственными ооцитами у пациентки 44 лет.
Клиническое наблюдение
Пациентка А., 44 лет, обратилась в отделение вспомогательных технологий в лечении бесплодия им. профессора Б.В. Леонова ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» с целью достижения беременности. На первичном приеме супружеская пара предъявляла жалобы на отсутствие наступления беременности на протяжении 4 лет регулярной половой жизни без методов контрацепции. Было проведено обследование согласно принятым регламентирующим документам и установлен диагноз «Вторичное бесплодие. Трубно-перитонеальный фактор. Поздний репродуктивный возраст». С целью лечения бесплодия паре была рекомендована программа ЭКО.
Соматический анамнез отягощен первичным гипотиреозом, медикаментозно компенсированным приемом препарата левотироксина в дозе 50 мкг в сутки. Пациентка была консультирована врачом-эндокринологом, противопоказаний для проведения ЭКО и вынашивания беременности нет.
Пациентка отрицала наличие вредных привычек. Наследственность не отягощена.
Гинекологический анамнез. Менструальная функция: менархе с 13 лет, цикл установился сразу, регулярный, со средней продолжительностью 28 дней, период менструальных выделений 3–4 дня. Нарушений менструальной функции не отмечено. Гинекологические заболевания, в том числе инфекции, передающиеся половым путем, в анамнезе отсутствуют. У пациентки в анамнезе 3 беременности, которые закончились по желанию медицинскими абортами с выскабливанием полости матки в 1995, 1999, 2000 гг., без осложнений. Вторичное бесплодие в течение 4 лет, в анамнезе попыток ВРТ не было.
Согласно проведенному клинико-лабораторному обследованию по данным гистеросальпингографии обе маточные трубы непроходимы. Уровень антимюллерова гормона на момент обращения – 1,92 нг/мл, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) – 6,27 мМе/мл, лютеинизирующего гормона (ЛГ) – 5,51 мМЕ/мл.
Возраст супруга 58 лет. Соматический анамнез не отягощен. По данным спермограммы – нормозооспермия.
По данным общего осмотра отмечена избыточная масса тела (индекс массы тела 29,14 кг/м2).
Медикаментозная терапия. Пациентке А. с 3-го дня менструального цикла была начата овариальная стимуляция по короткому протоколу с антГнРГ препаратом менопаузального человеческого гонадотропина (ФСГ:ЛГ=1:1). Начальная доза составила 225+225 МЕ ежедневно с 1-го по 2-й дни стимуляции, затем была уменьшена до 150+150 МЕ ежедневно с 3-го по 9-й дни стимуляции. Продолжительность стимуляции составила 9 дней, а общая доза ФСГ/ЛГ составила 1500+1500 МЕ. С 6-го дня стимуляции по фиксированному протоколу вводился антГнРГ цетрореликс в дозе 0,25 мг/сут с целью предотвращения преждевременного пика ЛГ. При достижении диаметра фолликулов 18–19 мм был введен триггер овуляции гонадотропин хорионический 7500 ЕД внутримышечно. Через 36 ч после введения триггера овуляции была произведена трансвагинальная пункция яичников, в результате которой было получено 4 ооцита М2. В связи с отсутствием у супруга спермы в день пункции (сбор биологического материала не был осуществлен ввиду психологических особенностей) было принято решение о криоконсервации 4 ооцитов. На следующий день после пункции в лабораторию была доставлена сперма супруга (биологический материал был собран в домашних условиях). Произведены разморозка 4 криоконсервированных ооцитов и их оплодотворение спермой супруга методом интрацитоплазматической инъекции сперматозоида (ИКСИ). На 4-е сутки развития в полость матки был произведен перенос одного эмбриона с применением вспомогательного хетчинга. Остальные эмбрионы утилизированы в связи с качеством, не соответствующим условиям криоконсервации. В результате проведения программы ЭКО наступила клиническая беременность. Беременность у пациентки протекала без особенностей, завершилась своевременными самопроизвольными родами, родился здоровый мальчик массой 3100 г, ростом 51 см, с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. Послеродовой период протекал без осложнений.
Обсуждение
Несмотря на совершенствование технологий ВРТ, низкая результативность лечения бесплодия у пациенток позднего репродуктивного возраста является серьезной проблемой для специалистов. Выбор оптимальных протоколов с учетом овариального резерва, возраста и особенностей соматического анамнеза может стать важной составляющей для достижения беременности у пациенток позднего репродуктивного возраста. Основным фактором успешного исхода цикла ЭКО является выделение достаточного количества ооцитов во время овариальной стимуляции. При этом для получения одного эмбриона, пригодного для переноса, у женщин старше 42 лет необходимо выделение как минимум 20 ооцитов, что диктует необходимость индивидуального подхода к использованию протоколов для разных возрастных групп [18]. Еще в 2016 г. международной исследовательской группой POSEIDON (Patient-Oriented Strategy Encompassing IndividualizeD Oocyte Number) была предложена стратификация пациентов на основании возраста, маркеров овариального резерва и характеристики овариального ответа, которая позволяет применять различные тактики овариальной стимуляции для получения большего количества ооцитов в каждой из групп [19]. В рассмотренном клиническом случае оценка овариального резерва была проведена согласно регламентирующим документам. Учитывая исходные показатели ультразвукового исследования органов малого таза с подсчетом числа антральных фолликулов и гормонального профиля, согласно классификации POSEIDON данная пациентка отнесена к группе 2в – группе с ожидаемым бедным или субоптимальным ответом на овариальную стимуляцию, что предполагает применение индивидуального протокола с целью получения лучших результатов [19]. Помимо этого, в настоящее время продолжаются активная разработка и оптимизация протоколов ВРТ у пациенток с «бедным» ответом яичников, в том числе с применением адъювантной терапии [20, 21]. В данном клиническом случае было выбрано лечение бесплодия по стандартному фиксированному протоколу с антГнРГ, в результате чего получено 4 ооцита. С учетом количества выделенных ооцитов и позднего репродуктивного возраста на этапе оплодотворения была применена методика ИКСИ, которая повышает результативность программ ВРТ не только при мужском бесплодии, но и в случае «бедного» ответа яичников, позднего репродуктивного возраста, бесплодия неясного генеза [22, 23]. На эмбриологическом этапе у данной супружеской пары был проведен вспомогательный хетчинг, который получил широкое клиническое применение как метод, улучшающий показатели наступления клинической беременности и живорождения [24, 25].
Следует учитывать высокий риск хромосомных и генетических аномалий, который коррелирует с возрастом женщины [18, 26]. Так, одной из главных причин неудач в программах ВРТ у пациентов позднего репродуктивного возраста является высокая частота хромосомных анеуплоидий у эмбрионов. С целью улучшения исходов лечения бесплодия у данной возрастной группы может быть рекомендовано преимплантационное генетическое тестирование на анеуплоидии (ПГТ-A) – единственный способ определения эуплоидных эмбрионов, пригодных для переноса [27–29]. Учитывая поздний репродуктивный возраст, супругам было рекомендовано проведение ПГТ-А, от которого они отказались.
Описанный клинический случай демонстрирует наступление беременности и рождение здорового ребенка с нормальным кариотипом после ЭКО с проведением ИКСИ и вспомогательного хетчинга без ПГТ-А у пациентки 44 лет. Поскольку пациентки позднего репродуктивного возраста требуют индивидуального подхода на всех этапах лечения бесплодия, данное клиническое наблюдение может быть рассмотрено в качества обмена опытом. В настоящее время отсутствие эффективных методов лечения бесплодия у пациентов поздней возрастной группы является основой для продолжения изучения молекулярных механизмов овариального старения, которые могут помочь в разработке новых терапевтических стратегий и привести к улучшению исходов ВРТ.
Заключение
Представлено клиническое наблюдение благоприятного исхода лечения бесплодия методами ВРТ с применением стандартного короткого протокола с антГнРг у пациентки 44 лет. Данный случай демонстрирует, что даже у пациенток позднего репродуктивного возраста – когорты с наиболее неблагоприятными репродуктивными исходами – возможно достижение клинической беременности при применении стандартных протоколов. Проведение полного клинико-лабораторного обследования, клиническая оценка возможных исходов позволяют оптимизировать протокол стимуляции овуляции и выбрать наиболее щадящий, но в то же время эффективный метод лечения для каждой супружеской пары. В то же время недостаточная осведомленность о влиянии возраста на фертильность распространена даже среди высокообразованных групп населения, поэтому при консультировании важно информировать пациенток репродуктивного возраста о возможностях сохранения фертильности, в том числе применения программ отложенного материнства. При лечении бесплодия у пациенток позднего репродуктивного возраста специалистам необходимо предоставлять информацию о крайне низких шансах наступления клинической беременности и живорождения при лечении бесплодия методами ВРТ с собственными ооцитами, а также о высоком риске материнских и перинатальных осложнений.