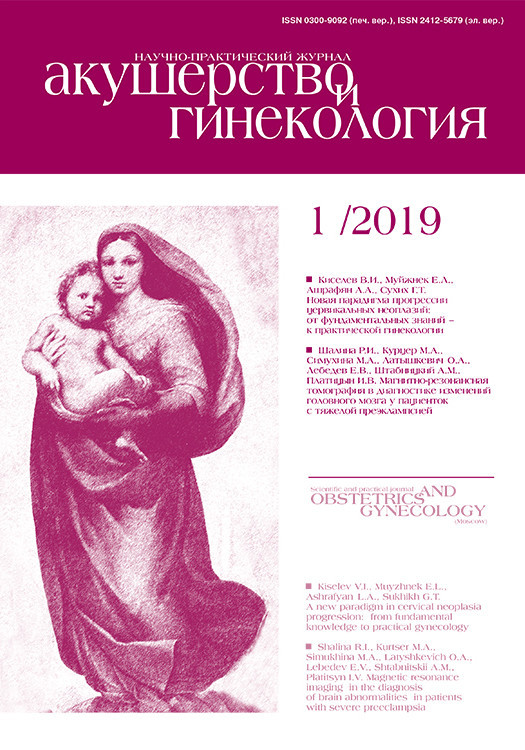Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) – как правило, ятрогенное осложнение овариальной стимуляции, в основе которого лежит гиперэргический неконтролируемый ответ яичников на введение гонадотропинов в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Это состояние характеризуется широким спектром клинических и лабораторных проявлений: от легких биохимических изменений до выраженного увеличения размеров яичников с формированием в них фолликулярных и лютеиновых кист на фоне выраженного отека стромы; увеличением сосудистой проницаемости, массивным переходом жидкой части крови из внутрисосудистого в «третье пространство», ведущим к гиповолемии, гемоконцентрации, гипопротеинемии, электролитному дисбалансу, развитию асцита, гидроторакса, гидроперикарда, олигурии, острой почечной недостаточности, тромбоэмболическим осложнениям, респираторному дистресс-синдрому взрослых [1]. Пусковым механизмом развития СГЯ традиционно считают экзогенное введение хорионического гонадотропина человека (ХГч) (ранние формы) или эндогенную секрецию этого гормона имплантировавшимся эмбрионом (поздние формы). Развитие СГЯ поддерживается также лютеиновыми кистами и возрастающей циркуляцией ХГч. Несмотря на то, что СГЯ возникает, как правило, в циклах ВРТ при гонадотропной стимуляции, описаны случаи спонтанных форм СГЯ [2–4]. Спонтанный СГЯ обычно развивается между 8-й и 14-й неделями беременности. Ранее его развитие объясняли чрезмерной секрецией ХГч при многоплодной беременности, пузырном заносе, синдроме поликистозных яичников (СПКЯ). Также спонтанные формы СГЯ напрямую связывают с сопутствующим гипотиреозом [5, 6].
Выявление пациенток с развившимся спонтанным СГЯ, не обусловленным выше перечисленными факторами, положило начало генетической теории развития спонтанных форм СГЯ, что послужило толчком к углубленному изучению полиморфизма генов гормонов и их рецепторов, ответственных за развитие данного осложнения [7–12]. Генетическая теория спонтанного СГЯ объясняет развитие данного состояния повышенной чувствительностью рецептора фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) для ХГч и/или тиреотропного гормона (ТТГ) и предлагает три механизма развития спонтанного СГЯ. Первый механизм объясняет состояния, связанные с высоким уровнем ХГч, в частности, пузырный занос и многоплодные беременности. Патофизиология данного процесса связана с гиперактивацией хорионическим гонадотропином ФСГ-рецептора в клетках гранулезы яичников, что ведет к гиперстимуляции яичников. Подобным образом процесс гиперстимуляции яичников запускается повышенным уровнем ТТГ при гипотиреозе, гиперактивирующим ФСГ через ТТГ-рецептор. Третий механизм связывает процесс развития спонтанного СГЯ с мутацией гена рецептора ФСГ, что обусловлено последующим снижением его специфичности и повышением чувствительность к ХГч и ТТГ [3].
Таким образом, именно с особенностями генотипа связывают повторяющиеся эпизоды СГЯ, возникающие во время спонтанных беременностей, наступивших без применения программ ВРТ, что обусловливает все больший интерес исследователей к поиску генетических предикторов развития данного осложнения, как спонтанного, так и ятрогенного.
Данная публикация посвящена клиническому наблюдению развития СГЯ при спонтанной беременности.
Описание
Больная Р., 26 лет, поступила в ФГБУ НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова с жалобами на слабость, одышку, тошноту, боли внизу живота, вздутие живота при сроке беременности 11–12 недель.
Из анамнеза:
Менструации с 13 лет, регулярные через 28–30 дней. До 25 лет с целью контрацепции принимала препарат «Ярина».
Данная беременность первая, наступила самопроизвольно. Вышеуказанные жалобы впервые возникли в сроке беременности 10–11 недель, в связи с чем, пациентка была госпитализирована в гинекологический стационар по месту жительства, откуда выписана по собственному желанию через 3 дня. В период пребывания в стационаре пациентка получала низкомолекулярные гепарины и гестагены для поддержки беременности. Принимая во внимание отсутствие положительной динамики клинических показателей и необходимость проведения полного клинико-лабораторного обследования для определения дальнейшей тактики ведения, пациентка была госпитализирована в 1-е гинекологическое отделение Центра.
При поступлении общее состояние удовлетворительное. Рост 178 см. Вес 53 кг. Индекс массы тела – 17 кг/м2. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, обычной окраски и влажности. Температура тела 36,7. Пульс 80 ударов в минуту, АД 110/60 мм рт ст. Тоны сердца ясные, ритмичные. В легких везикулярное дыхание, проводится во всех отделах. Живот несколько увеличен в размере, не напряжен, безболезненный при пальпации во всех отделах, симптомов раздражения брюшины нет. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Дизурических явлений нет. Стул в норме. Диурез положительный. Мочеотделение –1250 мл.
Данные обследования при поступлении:
Ультразвуковое исследование органов малого таза и брюшной полости: прогрессирующая маточная беременность 11 недель и 3 дня. Яичники увеличены до 10–11 см в диаметре, с множественными лютеиновыми кистами. Определяется около 100 мл свободной жидкости в малом тазу и брюшной полости.
Клинический анализ крови: гемоглобин – 129 г/л, гематокрит – 0,359 л/л, эритроциты – 4,72×1012/л, лейкоциты –8,85×109/л, нейтрофилы–80,1%, лимфоциты – 12,4%, моноциты – 6,8%, тромбоциты – 216×109/л
Биохимический анализ крови: белок – 61,1 г/л (норма 62–83), альбумин – 39,1 г/л (норма 35–50), глюкоза 4,7 ммоль/л (норма 3,9–6,4), мочевина – 2,9 ммоль/л (норма 1,7–8,3) креатинин- 72,3 мкмоль/л (норма 53–97), билирубин общий (10,5 мкмоль/л), билирубин прямой 3,8 мкмоль/л (норма 0–5,5) АСАТ – 18 Ед/л (норма до 40), АЛАТ– 12,5 Ед/л (норма до 40), электролиты в норме.
Гемостазиограмма: протромбиновый индекс 114% (80–125%), АЧТВ 29,4 сек (20–40 сек), фибриноген 5,8 г/л (1,8–6,0 г/л), r+k 20,0 мм (19–27 мм), Ма 49,2 мин (40–52 мин), ИТП 12 усл. ед (6–12 усл. ед), РКМФ – отрицательно, МНО 0,9% (0,8–1,2 %), Д-димер – 900 (норма до 550).
Клинический диагноз: Cпонтанный СГЯ при сроке беременности 11 недель 3 дня.
Принимая во внимание удовлетворительные показатели гемодинамики, отсутствие явлений гемоконцентрации на фоне положительного баланса жидкости, а также отсутствие патологических изменений в биохимическом анализе крови, от проведения инфузионнной терапии на данном этапе лечения было решено воздержаться. Показания к эвакуации асцитической жидкости ввиду ее малого объема отсутствовали.
В отделении продолжена терапия, направленная на коррекцию коагуляционного потенциала крови (надропарин кальция в дозировке 0,3 мл × 1 раз в сутки, подкожно) под контролем лабораторных показателей, гестагенная поддержка ранней беременности.
В связи с улучшением общего самочувствия пациентка выписана на 3 сутки в удовлетворительном состоянии с рекомендациями продолжить инъекции низкомолекулярного гепарина под контролем показателей гемостазиограммы и гестагенную поддержку ранней беременности.
Через 3 недели госпитализирована в отделение патологии беременности Центра с жалобами на боли в низу живота, тошноту, слабость.
Ультразвуковое исследование при поступлении: прогрессирующая маточная беременность 14 недель и 4 дня. Яичники диаметром 11 см, с множественными лютеиновыми кистами. В малом тазу и брюшной полости определяется свободная жидкость в умеренном количестве.
По данным лабораторного обследования – показатели клинического и биохимического анализов крови в пределах нормативных значений. Явления гиперкоагуляции с положительной динамикой.
Клинический диагноз: Спонтанный СГЯ при беременности 14 недель и 4 дня. Угрожающий самопроизвольный выкидыш.
В отделении продолжена терапия, направленная на пролонгирование беременности: гестагены, низкомолекулярные гепарины, препараты магния с положительным эффектом.
Ультразвуковое исследование в динамике: яичники диаметром 9 см. Свободная жидкость в брюшной полости не определяется, в полости малого таза определяется в незначительном количестве.
Учитывая регресс явлений СГЯ, отсутствие данных за угрозу прерывания беременности пациентка выписана в сроке 16–17 недель под наблюдение врача акушера-гинеколога с рекомендациями.
Результаты генотипирования
Нами было проведено исследование зависимости развития СГЯ от генетической предрасположенности среди пациенток в программах ВРТ. Изучена широкая панель генетических маркеров, потенциально участвующих в развитии и клинических проявлениях СГЯ: IL18: -137 G>C, ICAM1 721 G>A (Gly241Arg), IL18 -656 C>A, VEGFA -2578(-2595) A>C, BSG: 3800 C>T, AMH 146 G>T (Ile49Ser) [rs 10407022], VEGFA 936 C>T, IL2 166 G>T (Leu38Leu), LHCGR 935 A>G (Asn312Ser) [rs 2293275], EDN1 G>T (Lys198Asn), VEGFA -634 G>C, IL6 174 C>G, AMHR2 (-482 A>G) [rs 2002555], EDNRAC>T (H323H), FSHR 2039 G>A (Ser680Asn) [rs 6166], IL1R1 1970 C>T [Pst1], INHA -16 C>Trs35118453, ESR1–351 A>G [XBaI] [rs 9340799], LHCGR 872 A>G (Asn291Ser) [rs 12470652], TNF -308 G>A, SERPINE1 (PAI-1) -675(5G>4G), IL1B -598(-1552) T>C, ESR1 –397 T>C [PvuII] [rs2234693], IL2 -330 T>G, TNF -238 G>A, IL1B -31 T>C, ESR2 G>A [rs4986938], IL18 -607 G>T, TCHR 2181 C>G (Asp727Glu), IL8 -251 A>T, ACE 287bpIns>Del и проанализирована частота встречаемости различных аллелей каждого гена-кандидата.
На основании проведенного анализа был выявлен универсальный генетический предиктор развития СГЯ, не зависящий от наличия клинико-лабораторных маркеров риска пациенток в программах ВРТ – генотип TSHR 2181 C/С (Asp727Asp). Также основными молекулярно-генетическими предикторами развития СГЯ, по данным нашего исследования, являются генотип VEGFA -2578(-2595) A/C, носительство аллеля Т гена VEGFA 936 C>T, носительство аллеля LHCGR 935G (Asn312Ser), аллеля ESR1-351A [Xbal] (риск ранних форм СГЯ), носительство аллеля ESR1-351G [Xbal] (риск позднего СГЯ), а также генотипа АCE 287bp Ins/Ins.
У пациентки Р. по данным генотипирования выявлено 4 генотипа риска – TSHR:2181C/C, VEGFA -2578(-2595) A/C, LHCGR 935 А/G (Asn312Ser), ESR1-351A/А [Xbal] .
Обсуждение
Приведенное клиническое наблюдение свидетельствует в пользу возможной генетической предрасположенности к развитию СГЯ – как ятрогенных его форм, так и спонтанных.
В научной литературе давно уделяется внимание изучению и обсуждению генов-кандидатов, потенциально участвующих в развитии и клинических проявлениях СГЯ [4].
Мутации ТТГ-рецептора рассматриваются авторами, изучавшими патогенез спонтанного СГЯ, как одни из ключевых участников данного феномена [5, 13]. Доказано, что развитию СГЯ могут способствовать повышенные уровни ТТГ ввиду наличия рецепторов к тиреиодным гормонам в клетках гранулезы [6]. Считается, что ТТГ обладает слабой ФСГ-подобной активностью, воздействуя на ФСГ-рецептор и стимулируя функцию яичников. Также выявлена связь СГЯ с повышенным уровнем ТТГ, которая, вероятно, обусловлена структурной гомологией ТТГ, ФСГ, ЛГ и ХГч [14].
Также очевидным патогенетическим фактором в развитии СГЯ является повышение секреции вазоактивных цитокинов (сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), фактора некроза опухолей (TNF), интерлейкинов 1α, 1β, 6, 8 и других) яичниками [15]. VEGF играет ключевую роль в патогенезе данного осложнения, действуя на клеточные комплексы адгезии, в особенности на клаудин-5 в эндотелии [16]. VEGF стимулирует сосудистый эндотелий и принимает участие в процессах овариального ангиогенеза, роста фолликулов и функционировании желтого тела, оказывая перечисленные биологические эффекты посредством связывания со своими рецепторами VEGFR1 (Flt-1) и VEGFR2 (Flt-1/KDR), представленными на поверхности эндотелиальных клеток и принадлежащих к семейству тирозинкиназы [17]. Описанный механизм, реализуемый посредством VEGF, одинаково актуален при развития любого типа СГЯ, как ятрогенного, так и спонтанного, поэтому выявление мутации гена VEGFА вполне закономерно.
Полиморфизм генов LHCGR 935 и ESR1-351 [Xbal] не был описан в контексте спонтанных форм СГЯ, однако имеет значение для пациенток в программах ВРТ. Так, по данным O’Brien Т. и соавт. полиморфизм гена рецептора ЛГ/ХГч (LHCGR) 5259 G>C (rs4073366) был ассоциирован с повышенным риском СГЯ (OR=2,95, 95% CI 1,09-7,96) при стимуляции яичников в программе ЭКО [18]. Последнее полногеномное исследование показало, что LHCGR связан с уровнями глобулина, связывающего половые гормоны, что способствует повышению уровней андрогенов и эстрогенов [19]. Однако, влияние полиморфизма гена LHCGR (insLQ, rs4073366) на уровни глобулина, связывающего половые гормоны в настоящее время неизвестно. Также, при том, что указанный полиморфизм является потенциальным маркером риска СГЯ, его связь непосредственно с уровнем ЛГ еще не выяснена. Что касается полиморфизма гена ESR1 А>G [Xbal], Ayvaz и соавт. отмечали его ассоциацию с развитием СГЯ [20]. В исследовании de Mattos (2014), где изучались исходы программ ВРТ в зависимости от молекулярно-генетических предикторов, генотип G/G гена ESR1 А>G [Xbal] был ассоциирован с развитием СГЯ, однако авторы не проводили детального анализа по степени тяжести течения и формам развившегося осложнения, констатируя лишь факт его развития [21].
Заключение
Данное наблюдение подчеркивает вклад генетической детерминированности в развитие СГЯ, что в настоящем клиническом примере, а также в ряде иностранных публикаций последних лет, выражается в описании гиперстимуляции при спонтанной беременности.
Безусловно, относительно здоровой пациентке, планирующей беременность без применения ВРТ, мы не можем рекомендовать рутинное проведение генотипирования и применение профилактических мер. Однако подобные исследования подтверждают теорию о генетической предрасположенности к развитию такого серьезного осложнения, как СГЯ. Таким образом, можно заключить, что молекулярно-генетические предикторы могут значимо дополнить ряд существующих клинико-лабораторных маркеров, что особенно важно для пациенток, планирующих программы ВРТ. Комплексная оценка клинико-лабораторных и молекулярно-генетических предикторов у таких пациенток позволит индивидуально подобрать оптимальный протокол стимуляции яичников и минимизировать риски, связанные с развитием СГЯ.