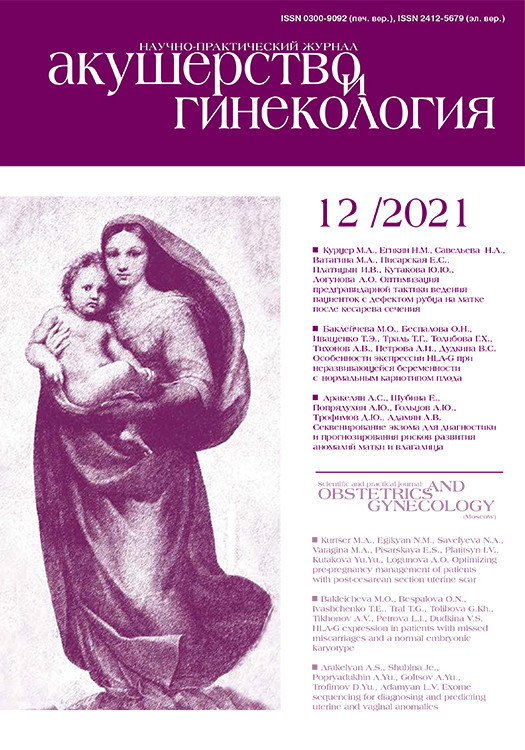Проблема рака шейки матки (РШМ) остается важным индикатором глобального неравенства в отношении здоровья. По оценкам, ежегодно регистрируется 569 000 новых случаев заболевания и 310 000 смертей, из которых примерно 85% произошли в странах с низким и средним уровнем дохода [1]. Связь между инфицированием вирусом папилломы человека (ВПЧ) и РШМ была продемонстрирована в начале 1980-х гг. немецким вирусологом Гарольдом зур Хаузеном и с тех пор является общеизвестным фактом. В данном обзоре мы постарались обобщить современные исследования данной проблемы.
Природа рака шейки матки и прогрессирование с ВПЧ
Карцинома шейки матки возникает из нормального эпителия шейки матки в результате прогрессирующего развития цервикальных интраэпителиальных неоплазий (Cervical Intraepithelial Neoplasia, CIN) легкой, средней и тяжелой степени, в которых ВПЧ играет основную причинную роль. ВПЧ, проникая в эпителий шейки матки, приводит к изменениям генома хозяина, что, с одной стороны, способствует снижению активности различных факторов, подавляющих развитие опухоли, а с другой, к аберрантному функционированию факторов, способствующих онкогенезу. Дисбаланс и нестабильность в геноме эпителиальных клеток шейки матки, вызванные различными ВПЧ индуцированными онкогенными факторами, приводят к долговременному прогрессированию развития опухоли. Однако тяжесть поражения и степень развития РШМ зависит от конкретных подтипов ВПЧ. На сегодняшний день идентифицировано 216 подтипов ВПЧ, которые классифицируются, как типы с низким, средним и высоким риском [2]. В то время как подтипы низкого и среднего риска имеют низкий потенциал в отношении злокачественной трансформации, подтипы высокого риска, особенно 16 и 18, являются основными активаторами неопластической трансформации.
Онкопротеины E5, E6 и E7, кодируемые геномом ВПЧ, являются основными движущими силами онкогенеза в нормальном эпителии шейки матки [3] и нарушают нормальное функционирование главного комплекса гистосовместимости I (MHC class I), p53 и Rb , Notch1, Wnt , MAPK, mTOR и STAT-ассоциированных путей, которые являются центральными игроками, контролирующими нормальный рост клеток, дифференцировку и иммунную функцию [4]. Повышенная активность теломеразы, как известно, связана с подавлением контроля деления эпителиальных клеток и развитием опухоли, а ВПЧ-E6, как известно, усиливает активность теломеразы в эпителии шейки матки [4]. Таким образом, онкогенные компоненты E6 и E7 генома ВПЧ обладают способностью репрограммировать геном хозяина, протеомы и внутриклеточную сигнальную сеть в эпителиальной нише шейки матки и способствуют вирусному онкогенезу. На сегодняшний день при РШМ задокументировано несколько молекулярных изменений. Недавние исследования выявили несколько онкогенных факторов, участвующих в развитии РШМ, включая HMGA1, BAP31, KLF5, Fibulin 3, mirRNA-196a, miR-146b-3p и другие различные длинные некодирующие РНК [5].
С другой стороны, miR-27a, miR-424, mir140-5p и mir-328 продемонстрировали супрессорную роль в развитии РШМ [6]. Параллельно высокопроизводительное секвенирование генома прогрессивных образцов РШМ от 120 женщин выявило новые соматические мутации в FAT1, MLL3, MLL2 и FADD. Кроме того, это исследование выявило точки разрыва интеграции ВПЧ в 97,8% при РШМ, в 70,5% – при CIN и в 42,8% – при ВПЧ и нормальном эпителии шейки матки [7].
В другом исследовании секвенирование экзонов 409 генов, связанных с раком, в радиочувствительных и радиационно-устойчивых рецидивирующих опухолях выявило активацию PIK3CA и KRAS, инактивацию мутаций SMAD4 в первичных опухолях и мутаций в KMT2A, TET1 и NLRP1 в устойчивых к радиотерапии опухолях [8]. В дополнение к этим молекулярным изменениям, хромосомные амплификации в chr.1q, 3q, 5p, 8q и 3q26 были описаны при РШМ [9]. Следует отметить, что локус 3q26 связан с геном теломеразы, который чаще обнаруживается при поражениях CIN. Всесторонний анализ генома РШМ был также проведен через сеть Атласа генома рака [10], который выявил значительные мутации в APOBEC, SHKBP1, ERBB3, CASP8, HLA-A и TGFBR2. Кроме того, были обнаружены амплификации в близко расположенных молекулах PD-L1 (9p24.1) и PD-L2 (9p24.1). Примечательно, что интеграция ВПЧ-18 и ВПЧ-16 высокого риска была обнаружена в 100 и 76% случаев, соответственно [10]. Все эти исследования выявили различные пути, связанные с прогрессированием РШМ.
Кроме того, генетический полиморфизм в различных генах связан с риском развития различных видов рака [11]. В недавних исследованиях полиморфные варианты различных молекул лейкоцитарного антигена человека были связаны с развитием РШМ [11]. Посредством метаанализа существующих данных по РШМ, авторы недавнего исследования продемонстрировали, что полиморфизмы MspI и Ile462Val в гене CYP1A1 являются потенциальными факторами риска развития РШМ [12]. Авторы другого исследования предположили потенциальную связь между полиморфизмом экзона 1 гена MBL2 и повышенным риском развития РШМ [13].
Патогенез ВПЧ
ВПЧ поражает в основном базальные клетки многослойного плоского эпителия. Другие типы клеток кажутся относительно устойчивыми. Попытки исследователей воспроизвести репликацию ВПЧ в стандартной культуре клеток не увенчались успехом, в основном потому, что репликация связана с процессом дифференцировки кератиноцитов, и трудно воссоздать многослойную структуру эпителия in vitro. Некоторые типы ВПЧ были успешно культивированы с использованием биологических моделей ксенотрансплантатов, или с использованием органотипических систем культивирования. Данные системы стали важными инструментами для изучения репликации ВПЧ и его взаимодействия с клетками-хозяевами. ВПЧ-6, -11, -16 и -40 успешно размножались в коже человека и в тканях шейки матки, которые были привиты мышам с атимическим (голым) или тяжелым комбинированным иммунодефицитом [14]. При этом, предполагается, что цикл репликации ВПЧ начинается с внедрения вируса в клетки герминативного слоя (базальный слой) эпителия. Вероятнее всего, поверхностная эрозия или микротравма эпидермиса способствует поражению базального слоя ВПЧ. Так, 6-интегрин был предложен в качестве поверхностного рецептора эпителиальных клеток для ВПЧ-6, однако он не является обязательным для прикрепления ВПЧ-11 или ВПЧ-33 [15]. ВПЧ-16 и ВПЧ-33, как и многие другие вирусы, прикрепляются к клеткам-хозяевам через сульфат гепарина на клеточной поверхности. Вторичный рецептор или стабилизирующие протеогликаны также могут участвовать в прикреплении ВПЧ [15]. Также был выявлен ряд факторов риска, которые способствуют развитию предшественников РШМ и самого РШМ. К ним относится инфицирование определенными онкогенными типами ВПЧ. ДНК ВПЧ была связана с РШМ почти в 99% случаев во многих исследованиях. Типы ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 66 и 68 тесно связаны с CIN и с инвазивным раком, 16 и 18 типы являются причиной почти 70% случаев. Так как ВПЧ передается при половом контакте, факторы риска тесно связаны с половой жизнью (например, количество половых партнеров в течение жизни, половые контакты в раннем возрасте) [16]. Итак, генетический материал ВПЧ заключен в икосаэдрический капсид, состоящий из основных и второстепенных структурных белков [17]. Сам ВПЧ состоит из двух отдельных поздних областей, L1 и L2, а также из шести отдельных ранних областей, E1, E2 и E4–E7. L1 и L2 являются консервативными областями в геноме ВПЧ и участвуют в продукции капсидного белка. Гены E6 и E7 являются регуляторами роста клеток и способны напрямую трансформировать клетки в злокачественный фенотип. Белок E6 связывает p53белок-супрессор опухоли хозяина и направляет его деградацию, что приводит к эффективному подавлению функции p53. Это предотвращает апоптоз и предрасполагает клетки к дальнейшему генетическому повреждению [18]. Точно так же белок E7 нарушает нормальную активность гена ретинобластомы pRb , делая его недоступным для связывания с E2F клеточным фактором транскрипции. Несвязанный E2F способен напрямую стимулировать клеточный цикл, который не контролируется pRb (и p53, если E6 активен) из-за связывания E7. Это может привести к невыявленным геномным аномалиям и злокачественной трансформации клетки. E1 обычно участвует в репликации ДНК, тогда как E2 участвует в регуляции транскрипции E6 и E7 ВПЧ. E2 является частым местом интеграции ДНК, что позволяет нарушить работу генов E6–E7. Нарушение этих генов вызывает ненормальный контроль транскрипции, позволяя генетическим изменениям оставаться неконтролируемыми, а аберрантному росту продолжаться без каких-либо изменений [18]. Считается, что папилломавирусная инфекция начинается в базальных или парабазальных клетках метапластического эпителия и зависит от клеточных взаимодействий, помимо простой клеточной инфекции [19]. Обычно ВПЧ проникает в цитоплазму клетки хозяина и изолируется в своей кольцевой форме в виде частиц, называемых эписомами. Здесь может происходить репликация ВПЧ, заполняя в процессе койлоцитоза цитоплазму клетки вирусными частицами, которые при световой микроскопии проявляются, как области перинуклеарного просвета. Как только вирусные частицы попадают в ядро, они могут связываться с клеточной ДНК и интегрироваться в геном хозяина, вызывая геномные и протеомные изменения. Интеграция ВПЧ является биологически необходимым процессом, который не всегда вызывает неопластическую трансформацию [19]. Большинство сексуально активных женщин в какой-то момент своей жизни заражаются ВПЧ. Для многих женщин эта инфекция остается бессимптомной и устраняется иммунной системой организма, однако у некоторых женщин в дальнейшем может перерасти в CIN низкой или высокой степени и карциному шейки матки, или регрессировать на любой стадии [20]. При многих поражениях, связанных с ВПЧ, которые прогрессируют в рак, геном вирусной ДНК ВПЧ интегрируется в геном хозяина. Этот процесс часто приводит к удалению многих ранних (E1, E2, E4 и E5) и поздних (L1 и L2) генов. Удаление L1 и L2 в процессе интеграции делает профилактические вакцины бесполезными против рака, связанного с ВПЧ. Кроме того, E2 является негативным регулятором онкогенов ВПЧ E6 и E7. Делеция E2 во время интеграции приводит к повышенной экспрессии E6 и E7 и, как полагают, вносит вклад в канцерогенез ВПЧ-ассоциированных поражений [21]. Онкопротеины E6 и E7 необходимы для инициирования и поддержания злокачественных новообразований, связанных с ВПЧ, и в результате экспрессируются и присутствуют в трансформированных клетках [22].
Прогнозы прогресса или регресса прединвазивных поражений шейки матки зависят от многих факторов. Однако известно, что поражения низкой степени злокачественности имеют высокую частоту регрессии и низкую скорость прогрессирования, тогда как поражения высокой степени имеют больший риск прогрессирования при отсутствии лечения. Таким образом, пациенток с прединвазивным поражением шейки матки можно разделить на две подгруппы: пациентки с CIN низкой степени (CIN 1) и пациентки с CIN высокой степени (CIN 2–3). В 2006 г. группа экспертов разработала основные принципы лечения интраэпителиальной неоплазии для каждой из этих двух подгрупп, которые были обновлены в 2012 г. [23]. Стойкие цервикальные папилломавирусные инфекции могут прогрессировать до предраковых железистых или плоскоклеточных внутриэпителиальных поражений, гистопатологически классифицированных как CIN, и до рака. CIN далее классифицируется как: CIN 1 – легкая дисплазия; CIN 2 – дисплазия от умеренной до выраженной; и CIN 3 – тяжелая дисплазия до карциномы in situ. Большинство поражений CIN спонтанно регрессируют, хотя в течение ряда лет поражения шейки матки могут постепенно становиться злокачественными [24].
Диагноз CIN основан, в первую очередь, на наличии ядерной атипии и потере нормального плоскоклеточного созревания (полярности). Точная классификация CIN имеет важное значение, поскольку алгоритмы лечения и клинического наблюдения сильно различаются для поражений низкой (CIN 1) и высокой степени (CIN 2 и 3) [25]. Хотя вероятность прогрессирования явно возрастает с увеличением степени CIN, часть поражений высокой степени может регрессировать. Было показано, что инфицирование подтипами ВПЧ высокого риска является фактором риска стойкой и/или прогрессирующей дисплазии шейки матки. Также было высказано предположение, что интеграция ДНК ВПЧ в ДНК хозяина имеет решающее значение для цервикального канцерогенеза [26], опосредованного нарушением открытых рамок считывания E1/E2 генома ВПЧ и последующей потерей E2-контролируемой регуляции E6 и E7. Это приводит к сильному снижению уровней экспрессии р53 в раковых клетках, связанных с ВПЧ. Инактивация p53 хозяина и белка ретинобластомы (pRb) E6 и E7, соответственно, приводит к подавлению контрольных точек клеточного цикла и неконтролируемой пролиферации клеток. В деталях, E6 связывает p53, что приводит к его деградации посредством убиквитинирования, опосредованного E6-ассоциированным белком (E6AP) [27]. Интересно, что E6 сначала должен связываться с белком E3-лигазой E6AP, поскольку ни E6, ни E6AP не могут связываться только с p53.
Кроме того, только ВПЧ E6 и E7 высокого риска могут связываться с p53 или pRb39, подтверждая, что рак, связанный с ВПЧ, происходит только от типов ВПЧ высокого риска. Распад p53 приводит к инактивации одной из его мишеней – p21 (также известного как p21WAF1/Cip1), циклин-зависимого ингибитора киназы, который предотвращает переход клеток в фазу S, способствуя остановке клеточного цикла в фазе G1 в ответ на многие стимулы [27].
При этом, E7 нацелен на pRb для убиквитинирования, что приводит к высвобождению факторов транскрипции E2F, которые транскрибируют циклин E, циклин A и p16INK4A, ингибитор CDK4/6, заставляя клетки пройти преждевременное вступление в S-фазу. На сегодняшний день остается неясным, как E7 опосредует убиквитинирование pRb. Однако было высказано предположение, что Cullin2 может связываться с E7 и отвечать за убиквитинирование pRb46. Следует также отметить, что E7 убиквитинируется комплексом Cullin 1/Skp247. Хотя pRb также взаимодействует с Skp2, он не участвует в его убиквитинировании [28]. В целом, деградация как p53, так и pRb, опосредованная ВПЧ высокого риска, приводит к клеточной иммортализации, которая предположительно ведет к развитию дисплазии высокой степени (CIN 2 и 3) с потенциалом развития инвазивной карциномы [29].
Была также проведена оценка инфицированности высоко канцерогенными типами ВПЧ (ВПЧ-ВКР) женщин Перми и Пермского края по данным ВПЧ-скрининга. По результатам скрининга женщин ВПЧ-ВКР был выявлен у 13,6% преимущественно в возрасте 30–49 лет. В структуре ВПЧ 16, 18 и 45 типы составили 34%. При этом инфицирование шейки матки ВПЧ-ВКР не сопровождалось цитологическими признаками вирусного поражения и атипии клеток [30].
Таким образом, целесообразна разработка новых подходов к раннему выявлению ВПЧ. В 1996 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Европейской исследовательской организацией по генитальным инфекциям и неоплазии и Конференцией по РШМ Национальных институтов здравоохранения признали ВПЧ важной причиной развития РШМ [31]. В 2018 г. ВОЗ призвала к глобальным действиям по ликвидации РШМ. Его основная стратегия состоит в том, чтобы обследовать 70% женщин в возрасте от 35 до 45 лет и обеспечить надлежащее лечение 90% женщин, чтобы добиться менее четырех новых случаев на 100 000 женщин к 2030 г. [32].
В настоящее время проводят исследования по созданию терапевтических вакцин, нацеленных на онкобелки Е6 и Е7 ВПЧ. Терапевтическая вакцина необходима для того, чтобы помочь иммунной системе разрушить вирус, а также индуцировать клеточный ответ, направленный на элиминацию атипически измененных клеток. Необходима эффективная вакцина и при наличии предракового состояния или даже ракового заболевания. Однако, пока реальных результатов не получено.
Заключение
Проблема папилломавирусной инфекции в гинекологии еще далека от своего решения, и многие вопросы составляют предмет проводимых в настоящее время исследований. Сложность проблемы заключается, главным образом, в значительной распространенности инфекции, появлении новых генотипов ВПЧ и существенных различий в их злокачественной потенции, изменений напряженности противовирусного иммунитета организма пациентки, который и определяет стабильность излечения или время наступления рецидива. Накопленные знания о механизме вирусного канцерогенеза в развитии дисплазии и РШМ, обусловливают необходимость дальнейших исследований для разработки наиболее эффективных этиопатогенетических схем лечения, обладающих способностью «точечного» воздействия на генетическом уровне.