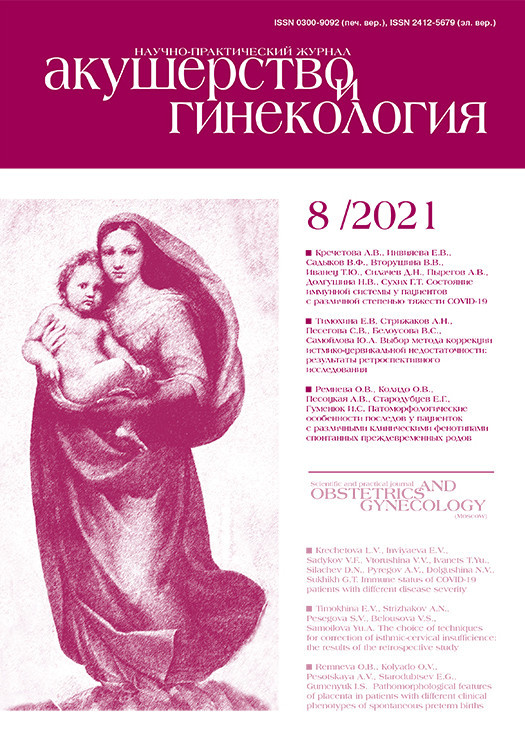Взаимодействие тромбоцитов с другими типами клеток, в том числе с лейкоцитами во многом определяет их роль в регуляции гомеостаза. По современным представлениям, ключевым звеном этого взаимодействия является образование тромбоцитарно-лейкоцитарных комплексов [1].
Определяющая роль тромбоцитов в процессе свертывания крови, необходимого для репарации повреждений кровеносных сосудов, была описана еще в конце XIX в. Bizzozero G. [2]. В дальнейшем было показано, что тромбоциты вовлекаются и во многие другие физиологические процессы. При этом в не меньшей степени изучена роль тромбоцитов в реализации репродуктивной функции, в частности, в процессе формирования и функционирования плаценты. На самых ранних этапах ее развития, в процессе инвазии, внутрисосудистый цитотрофобласт проникает в просветы спиральных артерий и формирует там плотные конгломераты [3], так называемые цитотрофобластические «пробки». Данные образования имеют неравномерную плотность, а в областях с разряженной плотностью могут формироваться каналы [4]. Несмотря на то что материнский кровоток в маточных спиральных артериях затрудняется «пробками» инвазировавшего цитотрофобласта, плазма и тромбоциты материнской крови могут проходить через узкие межклеточные промежутки, в то время как эритроциты и лейкоциты задерживаются и не попадают в межворсинчатое пространство. Из-за своих малых размеров (2–4 мкм) тромбоциты могут быть первыми среди материнских клеток крови, которые проникают в межворсинчатое пространство еще до полного установления маточно-плацентарного кровотока, определяя, таким образом, иммунологические материнско-фетальные взаимоотношения на самом раннем этапе репродуктивного процесса. При этом следует учитывать, что на поверхности тромбоцитов представлены антигены HLA I класса и другие аллоантигены, что, безусловно, делает их активными участниками материнско-фетальных иммунных взаимодействий.
Тромбоциты и содержимое их гранул выполняют важную регуляторную роль на ранних этапах развития плаценты. В частности, Moser G. et al. [5] продемонстрировали, что материнские тромбоциты локализуются не только на поверхности плацентарных ворсин, но также в якорных зонах трофобластических клеточных колонн. В настоящее время неизвестно, влияют ли различные факторы тромбоцитарного происхождения на функционирование различных субпопуляций трофобласта. Тем не менее, накопление тромбоцитов в межклеточных пространствах дистальных частей трофобластических колонн может свидетельствовать о возможном их вкладе в формирование инвазивного фенотипа клеток трофобласта. Кроме того, адгезия материнских тромбоцитов к поверхности ворсин и дегрануляция их содержимого может влиять на физиологию трофобласта, включая транспорт от матери к плоду и эндокринную активность.
В литературе накапливаются данные о роли негемостатических функций тромбоцитов в процессе плацентации [6]. Это может быть связано с участием тромбоцитов в инвазии трофобласта. В исследовании Sato Y. et al. была показана адгезия тромбоцитов CD41+ к клеткам CD146+ вневорсинчатого трофобласта, а также экспрессия P-селектина на поверхности большинства тромбоцитов, что говорит об их активированном состоянии. Результаты экспериментального исследования по изучению эффекта совместного культивирования клеток трофобласта и тромбоцитов позволяет предположить, что факторы, высвобождаемые тромбоцитами, могут индуцировать дифференцировку вневорсинчатого трофобласта с образованием внутрисосудистого фенотипа [7].
Важная роль тромбоцитов на ранних постимплантационных этапах репродуктивного процесса нашла свое отражение в эмпирическом использовании обогащенной тромбоцитами плазмы для орошения полости матки пациенток перед процедурой ЭКО.
Помимо этого, доказано участие тромбоцитов в регулировании реакций врожденного и приобретения иммунного ответа за счет взаимодействия с иммунокомпетентными клетками. Вовлеченность тромбоцитов в процесс асептического воспаления представляет особую важность для функционирования трофобласта. Материнские тромбоциты активируются при прохождении через межворсинчатое пространство за счет локального стаза, турбулентности и повреждения синцитиотрофобласта. Активация материнских тромбоцитов происходит под воздействием прокоагулянтных внеклеточных везикул, поступающих из синцитиотрофобласта, что ведет к высвобождению из тромбоцитов аденозинтрифосфата (АТФ) и активации инфламмасом в трофобластических клетках [8]. В результате в плаценте формируется провоспалительный профиль, который, возможно, приумножается до системного эффекта, включающего почечную и эндотелиальную дисфункцию, которая обусловливает такие гестационные сосудистые осложнения, как преэклампсия (ПЭ) и HELLP-синдром [9].
При изучении тромбоцитарно-лейкоцитарных взаимодействий анализируют изменения морфологии и функциональной активности тромбоцитов и лейкоцитов, вызванные ауто- и паракринным действием биологически активных веществ (хемокины, интерлейкины и т.п.), а также особенности формирования и функционирования гетеротипических межклеточных комплексов.
В последнем случае, особый интерес представляют исследования тромбоцитарно-моноцитарных комплексов (ТМК). Это объясняется как выраженной плюрипотентностью моноцитов, так и тем, что ТМК представляют собой доминирующую и наиболее стабильную популяцию тромбоцитарно-лейкоцитарных комплексов.
Особенности контактных взаимодействий ТМК (адгезия, агрегация) и спектр секреции ими низко- и высокомолекулярных физиологически активных веществ отличаются от соответствующих характеристик неагрегированных тромбоцитов и моноцитов.
Изменения в количественном содержании, фенотипе и функциональной активности ТМК были обнаружены при воспалении, развитии специфического и неспецифического иммунного ответа, а также при физиологических и патофизиологических процессах, связанных с васкуло-, ангиогенезом и тромбообразованием.
В настоящее время эти показатели наиболее изучены в случаях сердечно-сосудистых, онкологических, инфекционных и аутоиммунных заболеваний, дисфункции эндокринной и нервной систем, а также болезнях, сопровождающихся поражениями внутренних органов (легких, почек, желудочно-кишечного тракта) [10].
В частности, увеличение содержания ТМК было выявлено при патологических изменениях, затрагивающих периферические кровеносные сосуды и при гипертонии [11]. Сходная картина наблюдалась при остром и стабильном коронарном синдроме, а также при инсультах [12]. Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том, что образование ТМК способствует приобретению агрегированными моноцитами проатерогенного фенотипа. Таким образом, содержание и фенотип ТМК можно рассматривать не только как диагностические показатели, но и оценивать их, как факторы патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний [13].
При сахарном диабете происходят морфофункциональные изменения тромбоцитов, вызванные такими нарушениями метаболизма, как гипергликемия, недостаточность инсулина и повышенная устойчивость к нему, ожирение, дислипидемия и др. Одним из проявлений приобретения тромбоцитами «диабетического» фенотипа является повышение экспрессии Р-селектина, что приводит к усилению образования ТМК. Так, вне зависимости от типа диабета, было обнаружено повышенное (более чем в 2 раза) содержание этих комплексов в периферической крови пациентов с диабетом, по сравнению с контрольной группой. Кроме того, при диабете 1 типа отмечалось повышение экспрессии на тромбоцитах молекул CD40L, стабилизирующих ТМК [14].
Увеличение концентрации этих комплексов рассматривается как фактор риска развития сопутствующих диабету сердечно-сосудистых патологий, являющихся причиной смерти 70% больных диабетом [15].
Взаимодействие между активированными тромбоцитами и моноцитами индуцирует в последних экспрессию генов, приводящую к продукции модуляторов воспаления.
ТМК, как важная патофизиологическая единица, участвующая в развитии осложнений беременности, также является предметом активного изучения. Важная роль ТМК продемонстрирована в патогенезе развития ПЭ. Как уже было сказано, формирование комплекса активированного тромбоцита с моноцитом приводит к индукции секреции медиаторов воспаления [16]. Это может объяснять наблюдающееся повышение продукции интерлейкина-6, интерлейкина-8 и интерлейкина-1β моноцитами женщин с ПЭ, по сравнению со здоровыми беременными и небеременными женщинами [17].
У женщин с ПЭ значительно повышена доля моноцитов, вовлеченных в ТМК, по сравнению с данным показателем у небеременных и здоровых беременных женщин [18].
По данным Major H.D. et al., агрегаты тромбоцитов и моноцитов, выделенные в случаях с ПЭ, производят более высокие уровни sFlt-1, по сравнению с показателями в контрольной группе здоровых беременных, что, возможно, способствует развитию эндотелиальной дисфункции, нарушению ангиогенеза и избыточному воспалительному ответу при ПЭ [19].
Результаты приведенных исследований подтверждают важность дальнейшего изучения функций и роли ТМК, как в развитии патологии беременности, так и при заболеваниях не репродуктивной сферы. Перспективным представляется изучение возможности определения ТМК при различных состояниях с диагностической и прогностической целью [20].
Формирование тромбоцитарно-моноцитарных комплексов
Тромбоциты представляют собой форменные элементы крови, которые были впервые описаны Schultze M. [21]. Содержание тромбоцитов в периферической крови составляет 150–450 млн/мл, размер – 2–4 мкм [22].
Время жизни тромбоцитов после их выхода в системное кровообращение составляет 8–10 дней. Необратимая активация, вызванная различными агонистами, приводит к дегрануляции и заканчивается гибелью тромбоцитов. Неактивированные тромбоциты по мере старения претерпевают апоптотические изменения, а затем утилизируются клетками ретикуло-эндотелиальной системы, главным образом в селезенке и печени [23].
Несмотря на отсутствие ядер, тромбоциты обладают сложной внутриклеточной структурой, включающей в себя митохондрии и три типа гранул, содержащих биологически активные вещества. На поверхности тромбоцитов экспрессируются рецепторы, отвечающие за активацию, адгезию и агрегацию этих клеток [24].
Разнообразные стимулирующие воздействия приводят к характерным морфологическим изменениям – сферическая или дискообразная форма меняется на неправильную, формируются псевдоподии [25].
Еще одним следствием активации является высвобождение в окружающую среду содержимого тромбоцитарных гранул, в которых находятся мембраносвязанные белки, коагулянты, антикоагулянты, фибринолитические белки, молекулы адгезии, хемокины, ростовые факторы, микробицидные белки, медиаторы иммунных реакций (α-гранулы) [26], катионы, фосфаты, биоактивные амины, нуклеотиды (плотные гранулы) [27] протеиназы, ферменты, расщепляющие сахара, фосфатазы [28].
В основе наших представлений о моноцитах лежат работы И.И. Мечникова, выполненные более 100 лет назад. В 1960-х гг. была создана концепция системы мононуклеарных фагоцитов (СМК) [29]. СМК играет важную роль в ремоделировании тканей, гемостазе, активации и регулировании реакций неспецифического и специфического иммунитета. В настоящее время в нее включают три типа клеток: моноциты, терминально дифференцированные макрофаги и дендритные клетки.
Предшественники моноцитов образуются из стволовых клеток костного мозга и выходят в кровоток, где дифференцируются в зрелые моноциты. Концентрация этих клеток в периферической крови составляет 80–600 тыс./мл. Они представляют собой гетерогенную популяцию клеток эллипсоидной формы, различающихся по таким гистологическим критериям, как размер (в среднем 18–20 мкм), морфология ядер и гранулярность.
Более 30 лет назад был предложен принцип определения субпопуляций моноцитов, базирующийся на различиях в экспрессии на их поверхности молекул CD14 (рецепторы к LPC) и CD16 (рецепторы к FCγIII). В настоящее время считается, что циркулирующие моноциты представлены тремя основными субпопуляциями клеток, а именно: классические моноциты CD14++CD16-, промежуточная субпопуляция CD14+CD16+ и неклассические моноциты CD14-CD16++ [30].
Изменения в балансе содержания основных субпопуляций моноцитов наблюдается у пациентов с различными патологическими состояниями, в частности при тромбозах, сердечно-сосудистых и воспалительных заболеваниях [31].
При этом классические моноциты обладают выраженной фагоцитарной активностью и не рассматриваются, как клетки с высоким иммунорегуляторным потенциалом; в то время как неклассические моноциты, наоборот, имеют провоспалительный фенотип и не проявляют выраженную способность к фагоцитозу. Клетки, принадлежащие к промежуточной субпопуляции, обладают, в той или иной степени, обоими типами функциональной активности. Активация моноцитов приводит к изменению репертуара экспонируемых ими поверхностных антигенов и к продукции различных физиологически активных веществ. Таким образом, моноциты можно рассматривать, как динамичную популяцию клеток, способную к переходу от классического типа к промежуточному и неклассическому. Такие изменения наблюдаются при коронарной недостаточности, бактериальных и вирусных инфекциях, аутоиммунных заболеваниях, хронической миеломоноцитарной лейкемии и др. [32].
ТМК образуются за счет комплементарного связывания экспонированных на поверхностях этих клеток молекул, экспрессия которых, в свою очередь, определяется активационным статусом тромбоцитов и моноцитов. При этом один моноцит может связывать несколько тромбоцитов.
Основные молекулы, участвующие в формировании ТМК представлены на рисунке 1.

Следует отметить, что бурно развивающиеся в последнее время методы протеомного анализа позволили выявить около 4000 тромбоцитарных белков [33], а протеомный анализ белков моноцитарного происхождения позволяет охарактеризовать до нескольких десятков тысяч таких молекул [34]. Роль этих продуктов в формировании ТМК и их функциональной активности требует дальнейших исследований.
Первый этап образования ТМК заключается в связывании CD62P с PSGL-1, при этом в комплексообразование вступают как активированные, так и неактивированные моноциты. После этого лигированный PSGL-1 через свой цитоплазматический домен запускает активацию моноцитов, в частности выражающуюся в усилении экспрессии интегринов β1 и β2 (входят в состав Mac-1 и LFA-1) [35].
В дальнейшем связи между этими клетками усиливаются за счет взаимодействия между находящимися на поверхности моноцитов молекул CD40 и экспрессируемыми тромбоцитами молекулами CD40L, а также с помощью других взаимодействий рецепторов с лигандами.
ТМК стабилизируется за счет связывания Mac-1 с находящимися на поверхности тромбоцитов гликопротеинами GPIIb/IIIa, GPIbα, JAM-3, в то время как LFA-1 соединяется с ICAM-2.
Как известно, на мембране некоторых моноцитов экспрессируется подопанин (PDPN), связывание которого с CLEC-2 на тромбоцитах в составе ТМК также приводит к стабилизации комплекса и изменению функциональной активности его составляющих.
Еще одной молекулой, участвующей в формировании ТМК является находящийся на мембране тромбоцитов TREM-1, соединяющийся с соответствующим лигандом (химическая природа не установлена) на тромбоцитах [36]. Помимо этого, стабилизации ТМК способствует одновременное связывание тромбоспондина соответствующими рецепторами (CD36), присутствующими на обоих типах клеток.
Таким образом, можно постулировать следующую последовательность событий, результатом которой является образование ТМК.
1. Активация тромбоцитов в месте повреждения сосуда или в сиcтемном кровотоке. Этот процесс может быть вызван действием цитокинов и других физиологически активных веществ, контактом тромбоцитов с активированными клетками эндотелия и элементами внеклеточного матрикса, а также в результате возникновения турбулентности или стагнации потока крови,
2. Агрегация моноцита с активированным тромбоцитом, за счет связи CD62P–PSGL-1.
3. Активация моноцитов под воздействием продуктов дегрануляции тромбоцитов, приводящая к секреции моноцитами широкого спектра физиологически активных веществ и экспрессии на их поверхности молекулярных комплексов, обеспечивающих контактные взаимодействия с тромбоцитами.
4. Стабилизация ТМК за счет связей Mac-1-GPIIb/IIIa, Mac-1– GPIbα, Mac-1–JAM-3, LFA-1–ICAM-2 и др.
5. Возникновение микроокружения, способствующего дальнейшему локальному образованию и стабилизации ТМК.
В дальнейшем ТМК участвуют в местных физиологических и/или патофизиологических реакциях. ТМК, продолжающие циркулировать в системном кровотоке, могут являться факторами, способствующими возникновению и развитию различных заболеваний.
Методы определения тромбоцитарно-моноцитарных комплексов Исследование ТМК необходимо для понимания и уточнения механизмов их образования, выяснения причин их появления, характера претерпеваемых ими изменений, участия в физиологических и патофизиологических процессах. Полученные при таких исследованиях данные используются при диагностике заболеваний различного генеза, имеют прогностическую ценность и необходимы при разработке лекарственных препаратов и схем адекватной терапии.
Первые упоминания о существовании подобных объектов относятся к началу 1960-х. На этом этапе исследования определение сформированных ТМК проводились с помощью световой микроскопии [37]; для подтверждения клеточной природы компонентов ТМК использовалось флуоресцентное окрашивание [38].
Для исследования структуры ТМК применяется также электронная микроскопия, в частности, одни из первых микрофотографий были получены еще до того, как были сформулированы представления о механизмах формирования ТМК.
В настоящее время различные виды электронной микроскопии также успешно используются при изучении ТМК но, в основном, в сочетании с другими методами [39].
Самым распространенным способом изучения ТМК является проточная цитометрия. Подавляющее большинство исследований, выполненных к настоящему времени, использует данный метод, часто в сочетании с иммуномагнитной сепарацией, конфокальной микроскопией и др. Следует особо подчеркнуть, что проточная цитометрия позволяет не только зафиксировать факт образования ТМК и охарактеризовать их иммунофенотип, но и снабдить информацией об абсолютном и относительном содержании этих объектов в изучаемых образцах.
Анализ ТМК, реализуемый при помощи этого метода, включает в себя следующие элементы.
1. Преаналитические процедуры.
2. Проточная цитометрия подготовленных образцов.
3. Анализ и статистическая обработка полученных данных.
При этом этап 1 включает в себя: получение биологического материала, его первичную обработку (фиксация, лизис, отмывание, пермеабилизация), транспортировку, окрашивание с помощью конъюгированных с флуорохромами моноклональных антител. При этом необходимо в максимальной степени сохранить свойства ТМК, приобретенные ими in vivo. Температура, поддерживаемая при транспортировке фиксированного образца, и время транспортировки не являются критическими факторами, но, тем не менее, должны быть одинаковыми при проведении серии экспериментов. В случае необходимости проведения процедур фиксации, лизиса, отмывания и пермеабилизации, они оптимизируются, исходя из особенностей выбранного набора характеризующих ТМК конъюгированных с флуорохромами моноклональных антител. Как правило, для иммунофенотипического определения ТМК необходимы антитела, позволяющие идентифицировать лейкоцитарный, моноцитарный и тромбоцитарный антигены. В случае исследования ТМК в зависимости от типа образующих их субпопуляций моноцитов, используются соответствующие идентификационные антитела. Выбор дополнительных реагентов определяется задачами конкретного исследования.
В зависимости от модели и комплектации используемого оборудования и реагентов для исследования одного образца может быть использовано от двух до шести различных флуоресцентных меток [40].
Наиболее часто применяемая стратегия выделения отдельных популяций объектов цитофлуориметрического анализа представлена на рисунке 2.

Используемые идентификаторы: морфологический (SSC), панлейкоцитарный (как правило, CD45), моноцитарный (практически всегда CD14), тромбоцитарный (CD41a, реже CD42), субпопуляций моноцитов (CD16).
Некоторые современные исследователи предлагают использовать для дополнительной дифференцировки субпопуляций моноцитов такие антигены, как CCR2, CD36, HLA-DR, и CD11c. Было показано, что модификация стратегии выбора объектов анализа с учетом экспрессии этих молекул позволяет довести чистоту выбираемых для дальнейшего анализа промежуточной и неклассической субпопуляций моноцитов (и образуемых ими комплексов) до 98,8 и 99,1%, соответственно [41].
Анализ и интерпретация полученных цитометрических данных могут быть проведены, как с использованием программного обеспечения, предоставляемого фирмами-производителями приборов, так и с помощью программ специально разработанных для графической и статистической обработки файлов, записанных в общепринятом для хранения цитометрических данных формате «.fcs».
В последнее время для анализа клеток начал широко использоваться метод проточной цитометрии с визуализацией, сочетающий цитометрию и флуоресцентную микроскопию [42]. Этот подход был успешно использован и при исследовании ТМК [43, 44].
Помимо анализа образованных in vivo ТМК, для выяснения деталей механизмов их образования и обнаружения факторов, способствующих этому процессу или препятствующих ему, применяются модели in vitro с использованием моноцитоподобных клеточных линий или первичных культур клеток [45, 46].
Таким образом, можно заключить, что исследование ТМК является одним из динамично и успешно развивающихся направлений в области изучения межклеточных взаимодействий, обеспечивающих важнейшие физиологические процессы, в том числе в сфере репродуктивного здоровья.
Заключение
Результаты многочисленных исследований взаимодействия тромбоцитов и моноцитов показали важную роль контактных взаимодействий между этими типами клеток в различных физиологических и патофизиологических процессах, при этом наиболее выраженным проявлением этого типа взаимодействий является формирование ТМК. В настоящее время можно утверждать, что сформулированы основные представления о механизмах их образования, в частности, идентифицированы мембраносвязанные молекулы и молекулярные комплексы, а также растворимые факторы, способствующие возникновению и стабилизации ТМК.
Анализ экспериментальных данных позволяет предположить, что ТМК осуществляют регулирование локального гомеостаза, как за счет изменения спектра продуцируемых компонентами этих структур физиологически активных веществ, так и за счет их непосредственного контакта с другими типами клеток, прежде всего эндотелиальными. С точки зрения изучения репродуктивных процессов, безусловный интерес представляет изучение влияния ТМК на клетки эндометрия и трофобласта, но исследования в этом направлении практически отсутствуют. Перспективным представляется подход, основанный на создании клеточных моделей, использующих линии клеток соответствующего происхождения.
Современные технологии позволяют эффективно выделять и идентифицировать ТМК. В настоящее время можно говорить об «иммунофенотипическом стандарте» ТМК, определяемом с помощью проточной цитометрии, как события CD14+CD41a+, выявляемые в области моноцитарных клеток, определяемой по параметрам прямого и бокового светорассеяния. Это создало предпосылки для использования измерения концентрации ТМК в качестве диагностического и прогностического показателя при заболеваниях, сопровождающихся нарушениями гемостаза.
Тем не менее, следует отметить, что популяция ТМК не является однородной, так как моноциты, вовлеченные в образование комплексов, обладают различными морфофункциональными особенностями (в частности, уровнем экспрессии CD16). Поэтому, вопросы о стандартизации методов выделения, идентификации и характеристики этих структур, а также их ценности как диагностических, мониторинговых и прогностических показателей остаются открытыми.