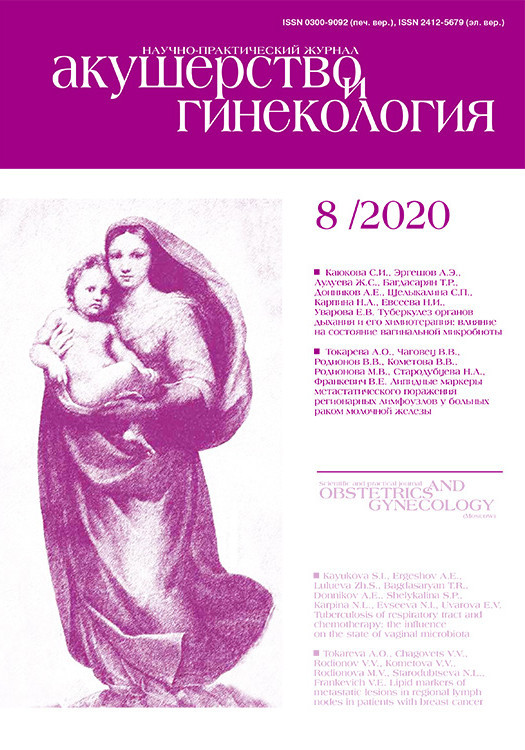Кальциевые каналы представлены во всех мышечных системах (гладких мышцах органов и сосудов, кардиомиоцитах, синцитии матки, поперечно-полосатой мускулатуре, экзокринных системах). Работа кальциевых каналов опосредуется транспортом ионов Са2+ внутрь клетки и из клетки, что ведет к изменению сопряжения процессов возбуждения и покоя с последующим изменением функции клетки.
Вход ионов Са2+ в клетку вызывает положительный ино- и хронотропный эффекты, повышение тонуса сосудов, агрегацию тромбоцитов, высвобождение нейромедиаторов и т.д. [1, 2]. Недостаток ионов Са2+ имеет такие же клинические проявления, как и при приеме антагонистов Са2+: гипотония, сердечная недостаточность, нарушения ритма сердца и проводимости, вазомоторные проявления в виде приливов, жара, отеков, головные боли, сыпь, а также иные побочные эффекты (запоры, повышенная чувствительность к солнечному свету и т.д.). Кальциевые каналы CaV1.2 имеются в мозге, миокарде, легких, аорте, яичниках, фибробластах, что и обуславливает такой многогранный эффект клинических проявлений [1, 2].
В акушерстве и гинекологии в развитии таких клинических состояний, как угроза преждевременных родов и преждевременные роды, аномалии родовой деятельности с тенденцией к слабости родовой деятельности, врожденная кардиомиопатия и нарушения ритма сердца у новорожденных, артериальная гипертензия во время беременности, в родах и послеродовом периоде, не последняя роль может принадлежать изменению функции кальциевых каналов.
Роль кальциевых каналов
Активация кальциевых каналов CaV1.2 L-типа лежит в основе сокращений миокарда, гладкой мускулатуры (кишечника, матки, сосудов), поперечно-полосатой (скелетной) мускулатуры, пейсмейкерной активности клеток проводящей системы сердца, выделения медиаторов нервными клетками, секреции ферментов и гормонов экзо- и эндокринными клетками и т.д.
Кальциевые каналы CaV1.2 относятся к потенциалзависимым кальциевым каналам L-типа. Кальциевый канал CaV1.2 состоит из пяти субъединиц: каналообразующей субъединицы α1С, которая является основной структурной и функциональной единицей канала, и четырех регуляторных: α2, δ, β и γ. Каналообразующая субъединица α1C образует проводящий канал, несет сенсор потенциала и участок, связывающий дигидропиридины [3]. Каналообразующая субъединица α1С кодируется геном CACNA1C, расположенным на 12 хромосоме, локусе 12q13.3 [1, 2].
В исследованиях на мышах было показано, что активация кальциевых каналов CaV1.2 играет решающую роль в регуляции активности гладких мышц матки и сосудов, повышении чувствительности к кальцию, что индуцирует процесс родов. В беременной матке уровни экспрессии генов CaV1.2, CaV3.1 и CaV3 кальциевых каналов в гладкомышечной ткани существенно выше, чем в небеременной, а при угрозе преждевременных родов (преждевременных родах) – выше, по сравнению с началом родов при доношенной беременности [4].
Потенциалзависимые кальциевые каналы L-типа являются фармакологическими мишенями для блокаторов медленных кальциевых каналов производных фенилалкиламина, дигидропиридина и бензотиазепина [2]. Неслучайно препаратом первой линии при угрозе преждевременных родов является антагонист Са2+ каналов нифедипин (Порядок 572-н) [5], который имеет преимущества по сравнению с β-адреномиметиками и по конечному эффекту на синцитий матки (релаксация), и по меньшему числу побочных осложнений.
Ранее β-адреномиметики (партусистен, бриканил, ритодрин, гинипрал) как в России, так и в европейских и азиатских странах использовались как препарат основной линии при угрозе преждевременных родов. Однако из-за большого количества побочных эффектов данная группа препаратов потеряла популярность у акушеров-гинекологов. Было показано, что частота побочных эффектов при использовании β-адреномиметиков у разной категории больных с разницей в 21% объясняется именно полиморфизмом гена CACNA1C [6].
Полиморфизм гена CACNA1C определяет и склонность к развитию артериальной гипертензии в период беременности, в родах, в послеродовом периоде [7].
Немаловажно и то, что в эксперименте на гипертензивных крысах было показано, что активная физическая нагрузка у животных подавляла экспрессию белка вследствие подавления функции гена CaV1.2 кальциевых каналов (ответственного за ток Са2+ в клетку) и способствовала улучшению ремоделирования микроциркуляторного русла у потомства [8]. Основная роль исследователями отводилась метилированию гена.
Напряжения мышечного волокна и электрические свойства мембраны взаимосвязаны [9], что делает понятной взаимосвязь между дозированной физической нагрузкой, мышечным напряжением и уровнем артериального давления. Роль эпигенетической регуляции в функции кальциевых каналов у больных с артериальной гипертензией подтверждена исследованиями в различных странах [10]. Принятие к сведению одной из первопричин развития артериальной гипертензии во время беременности могло бы помочь не только в подборе медикаментозной терапии, но и появлению ряда схем профилактики и реабилитации.
Из всего вышесказанного можно предположить, что не только медикаментозная коррекция артериальной гипертензии во время беременности должна быть в центре внимания терапевтов и акушеров-гинекологов, но и вопросы профилактики и реабилитации (физические упражнения как на ранних этапах беременности, так и в послеродовом периоде). «Доза» (интенсивность/объем) имеет большое значение [11].
Наше предположение о роли дозированных физических нагрузок в профилактике развития артериальной гипертензии у беременных подтверждают исследования и других авторов. Так, было показано, что дозированные физические нагрузки снижают риск развития гестационного сахарного диабета на 59%, преэклампсии – на 24% по сравнению с физически неактивными беременными [12, 13]. Таким образом, развитие артериальной гипертензии во время беременности в ряде случаев может быть предотвратимо, и не последняя роль в этой связке принадлежит кальциевым каналам.
В основе нарушений сердечного ритма и проводимости у пациенток в акушерстве и гинекологии также могут лежать изменения функции кальциевых каналов. Согласно нашим исследованиям, частота нарушений ритма и проводимости у беременных со структурными аномалиями сердца (САС) может достигать 55,5%, а сами САС (открытое овальное окно, сочетание пролапса митрального клапана с аневризмой межпредсердной и межжелудочковой перегородок, с дополнительными хордами левого желудочка или аномалиями развития створок аортального клапана, а также с расширением корня аорты) – 5,9–7,8% [14, 15].
У пациенток с пролапсом гениталий (ПГ) частота нарушений сердечного ритма и проводимости в виде неполной блокады правой ножки пучка Гиса достигала 33% случаев (средний возраст пациенток не превышал 45 лет), подъемы сегмента ST и другие признаки нарушений процессов реполяризации миокарда – 15% [15–17]. И именно эти клинические проявления являются одним из проявлений каналопатий, в частности синдрома Бругада, о чем будет сказано ниже. Особенно проблема актуальна в рамках синдрома дисплазии соединительной ткани.
Первоначально патогенные варианты мутации гена CACNA1C были описаны в рамках синдрома Тимоти (LQT8) и Бругада, которые входят в класс генетически детерминированных каналопатий [18]. Диапазон клинических проявлений и их выраженность широк: от единичных нарушений ритма сердца до мультисистемных расстройств и от латентного течения до внезапной сердечной смерти.
Как правило, в основе клинических проявлений синдрома Тимоти, помимо нарушений сердечного ритма (атриовентрикулярные блокады, экстремальное удлинение интервала Q–T с высокоамплитудным зубцом U и жизнеопасными желудочковыми тахиаритмиями), в 60% случаев лежат и другие мультисистемные нарушения (синдактилия, сердечные аномалии, лицевые дисморфизмы и неврологические особенности (аутизм, судороги, умственная отсталость и гипотония), а также врожденные пороки сердца (открытый артериальный проток, открытое овальное отверстие, дефект межжелудочковой перегородки, тетрада Фалло и гипертрофическая кардиомиопатия) [19, 20]. Но синдром Тимоти может протекать и латентно. Например, описан случай внезапной смерти у гетерозиготы гена CACNA1C при тупом ударе в грудь [21]. Наличие латентных и стертых форм синдрома Тимоти обуславливает актуальность изучения мутации гена CACNA1C в акушерстве и гинекологии.
Синдром Бругада характеризуется синкопальными состояниями с изменениями на электрокардиограмме в виде блокады правой ножки пучка Гиса и элевации сегмента ST в правых прекордиальных отведениях (V1–V3), а также случаями внезапной сердечной смерти (в 4–12% всех случаев внезапной сердечной смерти) [22].
Как было сказано выше, частота неполной блокады правой ножки пучка Гиса у молодых пациенток с ПГ может достигать 33% [15–17]. В связи с этим изучение уровня экспрессии CACNA1C в акушерстве и гинекологии представляет интерес, т.к. недиагностированные каналопатии сами по себе могут являться причиной внезапной смерти у лиц моложе 35 лет [23].
Как правило, каналопатии могут проявляться синдромом удлиненного интервала Q–T (наследственный синдром удлиненного интервала Q–T, идиопатическая желудочковая фибрилляция, синдром ранней реполяризации и т.д.), а суммарная частота указанных синдромов в генезе внезапной сердечной смерти может достигать 25–30% [24]. Недостаточный поляризующий ток кальция внутрь может привести к развитию потенциально фатальной фибрилляции желудочков, в то время как усиленный ток кальция может продлить продолжительность потенциала сердечного действия, что повышает риск внезапной смерти.
Роль генетических мутаций CACNA1C
Было показано, что в 2,4% случаев в генезе внезапной смерти лиц, средний возраст которых составил 15,6±9,1 года, лежат именно генетические мутации CACNA1C [24]. Ни у кого из родственников умерших не было зарегистрированного семейного анамнеза аритмий, а также нарушений системы органов, напоминающих синдром Тимоти [24]. Работами других авторов на 5 поколениях было прослежено, что клинические варианты течения в изучаемом семействе были настолько разнообразны, что при одном и том же мутантном варианте гена CACNA1C индивиды были или совсем здоровы, или имели бессимптомное удлинение интервала Q–T до эпизодов пресинкопа, обморока, фибрилляции желудочков и развития внезапной смерти [22].
Актуальность изучения экспрессии CACNA1C в акушерстве и гинекологии обуславливает и тот факт, что распространенность сердечно-сосудистых проявлений как у акушерских больных, так и у пациенток с ПГ достаточно высока, а ряд каналопатий не диагностируется при жизни [14–17, 25]. Кроме того, послеродовое повышение пролактина и окситоцина могут вызвать еще большее удлинение интервала P–Q у пациенток с удлиненным интервалом P–Q 2 типа вследствие снижение резервов реполяризации [26]. Изучение взаимосвязи нарушений ритма сердца и проводимости у пациенток с САС на фоне дисплазии соединительной ткани и снижения уровня экспрессии гена CACNA1C представляет определенный интерес.
Учитывая, что каналопатии могут сопровождаться большими и малыми аномалиями развития, которые, в свою очередь, являются одним из критериев постановки диагноза «дисплазия соединительной ткани» (яркие представители – молодые пациентки с ПГ), изучение нарушения экспрессии гена CACNA1C крайне актуально именно у этой категории больных. В нашем исследовании САС у пациенток с ПГ могут достигать 88% (пролапс митрального, аортального, трикуспидального клапанов, регургитация на клапанах, дополнительные хорды в желудочках сердца и т.д.), фенотипические малые аномалии развития (так называемые стигмы синдрома дисплазии соединительной ткани) – 15–55% [15–17, 25, 27]. Кроме того, помимо нарушений сердечного ритма и проводимости, пациентки с ПГ имеют так называемый «саркопенический фенотип», который в 2010 г. нами был расценен как «фенотип со слабостью стромально-мышечного компонента» в рамках синдрома дисплазии соединительной ткани [15–17, 25, 27, 28].
«Саркопенический фенотип» у пациенток с ПГ (средний возраст 45 лет) проявлялся преобладанием астенического гипотрофического типа телосложения (30%) со склонностью к мышечной астении и снижению показателей кистевой манометрии ниже 23–25 кгс (р=0,001); нарушением рефракции с детства (22,2%) с ранней манифестацией в возрасте 14 лет, склонностью к вегетососудистой дистонии (60%), тенденцией к функциональной истмико-цервикальной недостаточности во время беременности (23%), быстрым и стремительным родам (37,6%), склонностью к запорам и т.д. [15, 25, 27, 28]. При исследовании эта группа пациенток имела варикозную болезнь – в 39,5% случаев, геморрой – в 30,9%, протрузию и релаксацию тазового дна – в 50%, повышенную гипермобильность суставов – в 48,8%, сколиоз 2 степени – в 33%, плоскостопие 3 степени – в 73,8%, гипотоническую дисфункцию кишечника – в 50–60% [15–17, 25, 27, 28].
Аналогичный «саркопенический фенотип» имели и первобеременные с пролабированием митрального клапана, в том числе и с угрозой преждевременных родов. Частота артериальной гипотензии в этой группе (средний возраст 23,9 года) достигала 22,6% (в группе сравнения – 11%), миопии – 40,6% (в группе сравнения – 24,4%), причем возраст манифестации миопии был 14,4±4,47 года (в группе сравнения – 19,6+7,79 года), нарушения сердечного ритма и проводимости достигали 64,2% (синусовая аритмия – 12,3%, синдром WPW – 12,3%, синдром ранней реполяризации – 10,9%, неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 28,7%) [17, 29]. Особенностью течения родов у этой группы больных была тенденция к быстрым и стремительным родам.
Учитывая то, что пациентки с ПГ имели «саркопенический фенотип», мы исследовали у них уровень экспрессии гена CACNA1C в круглой связке матки. Экспрессия CACNA1C была снижена в десятки и сотни раз по сравнению с группой контроля (достоверность p<0,05) [28]. Аналогичных исследований в зарубежной литературе мы не нашли.
Как было сказано выше, напряжения мышечного волокна и электрические свойства мембраны взаимосвязаны. Поэтому понятна взаимосвязь снижения экспрессии гена CACNA1C у пациенток с преобладанием «слабости стромально-мышечного компонента» при ПГ.
Пролапс гениталий всегда рассматривался исследователями как генитальная грыжа. Причин много: от эстрогенового дефицита у пожилых пациенток до повышения внутрибрюшного давления и травматичных родов в молодом возрасте. Однако в нашем исследовании ни эстрогенового дефицита, ни тяжелого физического труда выявлено не было. Оперативные роды в виде наложения акушерских щипцов и затяжные длительные роды в анамнезе не превышали 10%, в то время как частота пролапса митрального клапана достигала 88% [15, 17, 27, 29].
Несмотря на то что о дефиците эстрогенов в постменопаузе – как об одной из причин развития ПГ – говорилось неоднократно, четкая взаимосвязь лиганд–рецептор не просматривалась. Изучение уровня экспрессии CACNA1C может объяснить в ряде случаев и эту проблему.
Исследованиями китайских авторов в эксперименте на мышах было подтверждено повышение активности субъединицы α1C кальциевого канала при повышении уровня эстрадиола [30]. Соответственно, понижение уровня эстрадиола, вероятно, ведет к изменению уровня экспрессии CACNA1C с возможным развитием ПГ в постменопаузе. Поэтому вопрос об изучении уровня экспрессии CACNA1C у пациенток с ПГ в старшей возрастной группе также остается открытым.
Общеизвестно, что электромиостимуляция (ЭМС), так же, как и БОС-терапия (БОС – биологическая обратная связь), имеют хороший, но кратковременный эффект на состояние мышц тазового дна. Поэтому сегодня общепринятым стандартом лечения ПГ по-прежнему является хирургический метод. Тем не менее крайне интересен механизм положительного эффекта от ЭМС и БОС-терапии на мышцы тазового дна у пациенток с ПГ, в основе которого лежат генетически детерминированные процессы развития «слабости стромально-мышечного компонента».
Известно влияние ЭМС на нейрогенез. Экспериментально было показано, что ЭМС способствует усилению пролиферации нервных стволовых клеток, их дифференцировки, миграции и интеграции нейронов. Индуцированные электрические поля направляют рост аксонов и индуцируют направленную миграцию клеток, в то время как электромагнитные поля способствуют нейрогенезу и дифференцировке нервных стволовых клеток в функциональные нейроны [31].
При изучении нейрогенеза у мышей было показано, что именно потеря гена CACNA1C (вероятно, как и снижение его экспрессии) снижает выживаемость нейронов и уменьшает производство BDNF (brain-derived neurotrophic factor), являющегося важным фактором роста, поддерживающим нейрогенез [32]. Снижение экспрессии гена CACNA1C может объяснить неэффективность ЭМС и БОС-терапии у пациенток с ПГ в большинстве случаев.
Помимо перечисленных нарушений, характерных для каналопатий, мутации в гене CACNA1C являются предикторами и других заболеваний. Так, в 2013 г. самое большое (100 000 человек) генетическое исследование психических заболеваний (США, Институт Макса Планка) показало, что мутации в гене CACNA1C являются факторами риска пяти основных форм психоневрологических заболеваний — шизофрении, депрессии, биполярного расстройства, аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности, нарушения ассоциативной памяти [33]. Все перечисленные состояния имеют общую клиническую особенность – высокую тревожность.
Мутация в гене CACNA1C снижает стрессоустойчивость через изменение серотонинового обмена [34]. Банальная плановая полостная операция вследствие стресса может привести к развитию фибрилляции желудочков, даже при нормальном интервале Q–T [35].
В результате проведенного репликативного исследования при поддержке гранта РФФИ №14-04-97012р Российского фонда фундаментальных исследований была подтверждена ассоциация полиморфного маркера rs4765905 гена α-субъединицы кальциевого канала L-типа CACNA1C c развитием параноидной шизофрении [36].
Именно снижением экспрессии CACNA1C объясняется высокая частота развития психоневрологических заболеваний (шизофрении, депрессии, биполярного расстройства, аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности, нарушения ассоциативной памяти), что ряд авторов связывают с уменьшением в головном мозге синтеза BDNF [32].
В 2018 г. были исследованы причины тяжелых кардиомиопатий у детей, которые в 39% случаев являются результатом генетической мутации, причем почти в половине случаев (46%) – de novo. Была показана роль CACNA1C в генезе дилатационной кардиомиопатии [37].
Заключение
Таким образом, изучение уровня экспрессии α-1 субъединицы потенциалзависимого кальциевого канала CaV1.2 и уровня экспрессии белка в гладкомышечной ткани поможет не только объяснить этиопатогенетические механизмы ряда патологических состояний в акушерстве и гинекологии, но и выбрать персонифицированный подход к выбору метода лечения, а также к профилактике и реабилитации. Данный подход, несомненно, найдет свое применение у пациенток при привычном невынашивании беременности; артериальной гипертензии в период беременности, в родах и послеродовом периоде; у беременных при «саркопеническом фенотипе» для прогнозирования развития аномалий родовой деятельности и выбора способа родоразрешения; в неонатологии (врожденные нарушения ритма сердца, кардиомиопатии, синдром Бругада и т.д.), а также в оперативной гинекологии и общей хирургии у пациенток при пролапсе гениталий, прямой кишки, сигмоидоцеле в сочетании с грыжами различной локализации, спланхноптозом для выбора патогенетически обоснованного комбинированного метода хирургического лечения.