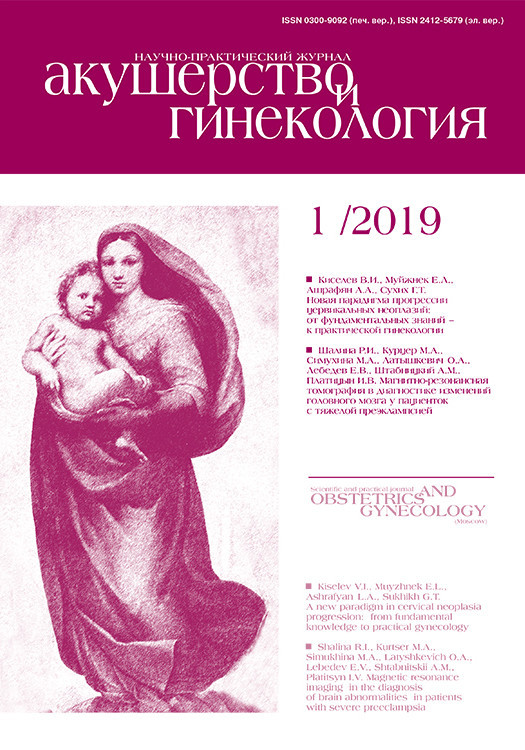Вопросы органосохраняющего лечения рака шейки матки (РШМ) в течение многих десятилетий продолжают оставаться в центре внимания ведущих отечественных и зарубежных онкологов в связи с высокой частотой данной патологии у пациенток репродуктивного возраста, что обусловливает не только медицинскую, но и социальную значимость проблемы. В последние десятилетия во многих странах мира, включая Россию, наблюдается неблагоприятная тенденция, когда в силу различных социально-экономических причин женщины все чаще откладывают рождение даже первого ребенка на возраст старше 30–35 лет. Этот факт приобретает особое значение при установлении диагноза злокачественной опухоли половых органов [1].
Главной целью органосохраняющего лечения РШМ является соблюдение принципов онкологической радикальности и сохранение репродуктивной функции [2].
РШМ – одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей у женщин, занимает 7-е место (9,8%) в структуре женской онкологической заболеваемости и 3-е место среди новообразований органов репродуктивной системы после рака молочной железы и эндометрия [1].
По данным Международного агентства по изучению рака, ежегодно в мире регистрируется 528 тысяч новых больных РШМ и 266 тысяч смертей от этого заболевания (7,9% от общего числа женщин, заболевших злокачественными новообразованиями) [3]. Широкое распространение этого заболевания отмечено в развивающихся странах, на которые приходится 78% наблюдений. В 2012 г. в России было зарегистрировано 15427 новых случаев РШМ; т.е. на долю этой патологии в структуре заболеваемости женщин злокачественными новообразованиями пришлось 5,3%. В возрастной группе 15–39 лет заболеваемость РШМ была максимальной (22,3%), по сравнению с другими возрастными группами [4]. В России цервикальные неоплазии составляют 5,5% от всех злокачественных опухолей у женщин, занимая 6-е ранговое место. Пик заболеваемости приходится на возраст старше 50 лет, однако у каждой пятой пациентки (21,3%) опухоль выявляется в возрасте до 40 лет [1].
Традиционное противоопухолевое лечение при начальных стадиях позволяет в подавляющем большинстве случаев сохранить жизнь пациентки, однако приводит к необратимой утрате фертильности, что многократно снижает качество жизни молодых женщин, не реализовавших ранее репродуктивную функцию [1, 2].
Физиологические и психологические последствия бесплодия, вызванного лечением по поводу онкологического заболевания, чрезвычайно негативны. Помимо самого факта нереализованной репродуктивной функции, у большинства молодых женщин этой группы наблюдаются депрессии различной степени тяжести, стрессовые расстройства и сексуальная дисфункция [1, 2].
Сейчас хорошо известны и зарекомендовали себя такие операции, как конизация и ножевая ампутация шейки матки, использующиеся при начальных формах рака, так как риск лимфогенного метастазирования на этих стадиях минимален и составляет 0–4% [5]. Однако показания к их выполнению ограничены карциномой in situ и IA1 стадией при условии отсутствия неблагоприятных прогностических факторов. Предпосылками к разработке методов лечения начального инвазивного РШМ с сохранением репродуктивной функции явились особенности канцерогенеза, а именно редкость поражения яичников и тела матки [6]. Выполнение экстирпации матки при микроинвазивном РШМ целесообразно лишь в том случае, если пациентка не заинтересована в сохранении репродуктивной функции или перспективы в успешном деторождении крайне малы. Однако этот вопрос онкологам и репродуктологам необходимо решать совместно [5].
РШМ характеризуется преимущественно местным боковым распространением. Наиболее часто наблюдается переход опухоли на верхние отделы влагалища, параметрии и крестцово–маточные связки. Нижняя и средняя трети влагалища поражаются крайне редко. В целом, распространение РШМ на тело матки у молодых женщин имеет место не более чем в 10% наблюдений, однако у пациенток старше 50 лет этот показатель может возрастать до 32%. Именно сведения о редком поражении верхних отделов цервикального канала, тела матки и придатков позволили предположить наличие потенциальной возможности сохранения репродуктивной функции у больных с начальными и инвазивными формами РШМ [1].
Термин «трахелэктомия» является производным от греческого «trachelos» (шея), в качестве синонима может быть применено определение «цервикэктомия». Прототипом современной радикальной трахелэктомии фактически является расширенная цервикэктомия, разработанная в 1950-х годах румынским гинекологом Е. Aburel для лечения пред- и микроинвазивного РШМ. Aburel выполнял полное удаление шейки матки из абдоминального доступа, сохраняя при этом тело матки и придатки, однако интерес к представленной технике был утрачен в связи малым числом публикаций и неудовлетворительными репродуктивными результатами [1, 6].
В 1987 г. профессор D.Dargent предложил новый органосохраняющий метод хирургического лечения: радикальную вагинальную трахелэктомию (РВТ), которая явилась модификацией операции Schauta (1901) — радикальной вагинальной гистерэктомии. Отличиями предложенной операции были сохранение тела матки и выполнение лапароскопической тазовой лимфаденэктомии. Операция РВТ начинается с лапароскопической лимфаденэктомии, вторым этапом осуществляется ее вагинальный компонент [1, 6, 7].
Технически выполнение РВТ возможно только при наличии подготовленных специалистов, обладающих значительным опытом в вагинальной и лапароскопической хирургии. В настоящее время многие хирурги овладели навыками оперативной лапароскопии, но лишь некоторые имеют необходимый опыт в выполнении влагалищных операций. Для большинства из них лапаротомный доступ является исторически более приемлемым. Это обстоятельство стало основной мотивацией для развития техники радикальной абдоминальной трахелэктомии (РАТ), впервые описанной в 1997 г. коллективом авторов из Великобритании, Венгрии и США. Другой причиной появления данного варианта трахелэктомии явились дискуссии, касающиеся сомнительной радикальности удаления параметральной клетчатки из влагалищного доступа [6].
Общепринятые критерии отбора больных для радикальной трахелэктомии: возраст до 40 лет; размер опухоли, не превышающий 2 см; плоскоклеточный рак или аденокарцинома; интактность верхней трети цервикального канала; отсутствие признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов; стадия IA1 с инвазией в лимфо–васкулярное пространство, стадии IА2-IB1 (≤ 2 см); желание сохранить фертильность; отсутствие признаков бесплодия; возможность динамического наблюдения [4, 7].
Ключевым критерием является размер опухоли, который не должен превышать 2 см, поскольку в данной ситуации риск экстрацервикального распространения процесса минимален и, соответственно, максимальны шансы на успех органосохраняющего лечения. Помимо этого, каждая больная должна быть тщательно обследована на предмет бесплодия и проведена взвешенная оценка репродуктивных намерений пациентки [7].
Техника оперативного вмешательства
РАТ заключается в полном или частичном удалении шейки матки, верхней трети влагалища, околошеечной и паравагинальной клетчатки, пузырно–маточной, кардинальных и крестцово-маточных связок, подвздошных (общих, наружных, внутренних) и обтураторных лимфатических узлов [2, 5]. Отличие РАТ от радикальной гистерэктомии заключается в том, что остаются сохранными тело матки, яичники, маточные трубы с целью последующей реализации репродуктивной функции [2].
Одной из основных задач радикальной трахелэктомии, наряду с необходимостью обеспечения радикальности хирургического лечения, является сохранение адекватного кровоснабжения матки (после удаления шейки и параметриев), яичников, маточных труб, а также нормальных анатомо-физиологических взаимоотношений между ними. В отличие от РВТ, обеспечивающей сохранение кровоснабжения матки за счет восходящих ветвей маточных артерий и яичниковых сосудов, известные методики РАТ выполняются с лигированием маточных артерий и вен, что приводит к изменению исходной ангиоархитектоники тела матки [6].
Этапы операции:
- Тазовая лимфаденэктомия. В объем удаления включаются: 1) общие подвздошные лимфоузлы 2) наружные подвздошные лимфоузлы 3) внутренние подвздошные лимфоузлы 4) запирательные лимфоузлы. После выполнения тазовой лимфаденэктомии осуществляется макроскопическая оценка удаленных лимфоузлов, подозрительные отсылаются на срочное морфологическое исследование. В случае их метастатического поражения органосохраняющее вмешательство не выполняется, что является первым этапом принятия решения [2].
- Отсечение матки. Уровень резекции шейки матки в каждом случае определяется индивидуально с учетом данных магнитно-резонансной томографии и ультразвукового исследования органов малого таза о локализации, размерах опухоли и протяженности поражения цервикального канала. С позиции профилактики невынашивания беременности после РАТ, оптимальной границей пересечения шейки матки считается расстояние, соответствующее 1 см от внутреннего зева. В то же время с точки зрения онкологической радикальности расстояние от проксимального края опухоли до линии резекции должно составлять не менее 5 мм. В случае меньшего расстояния опухоли от края резекции с онкологических позиций РАТ не может быть выполнена, что является вторым этапом принятия решения об органосохраняющем характере оперативного вмешательства. Для оценки адекватности удаления шейки матки выполняется поперечный срез толщиной 1–2 мм с ее резидуальной части для срочного гистологического исследования. В случае наличия опухолевых клеток в крае отсечения РАТ отменяется, что является третьим и завершающим этапом в принятии решения об органосохраняющей операции. В завершение данного этапа выполняется эндоцервикальный и эндометриальный кюретаж [2].
- Удаление шейки матки, парацервикальной клетчатки и верхней трети влагалища. На данном этапе операции проводится пересечение и прошивание крестцово–маточных связок. После этого осуществляют резекцию кардинальных связок. Удаление шейки матки завершают путем наложения зажимов на паравагинальную клетчатку и боковые отделы влагалища с последовательным пересечением передней и задней стенок влагалища. После вышеописанных хирургических манипуляций матка остается фиксированной к тканям таза только за счет круглых и воронко–тазовых связок. Осуществляется контроль кровоснабжения матки и придатков, проводятся гемостатические мероприятия [2].
- Формирование маточно-влагалищного анастомоза. Маточно-влагалищный анастомоз формируют с использованием рассасывающегося шовного материала путем наложения непрерывного обвивного шва, либо 4–6 узловых швов, соединяющих влагалище и культю шейки матки. На завершающем этапе операции повторно оценивают адекватность кровоснабжения матки, яичников и маточных труб. С целью профилактики образования лимфо-кист подвздошно – обтураторные зоны не перитонизируют. Через контрапертуру в передней брюшной стенке в Дугласово пространство устанавливают силиконовый дренаж. Послойно ушивают лапаротомную рану [2].
В РНПЦ онкологии РАТ была выполнена у 12 пациенток в запланированном объеме. Продолжительность операции варьировала от 185 мин. до 240 мин., средняя продолжительность составила 222 мин. Средняя кровопотеря составила 300,0 мл. Интраоперационных осложнений отмечено не было. У одной женщины операция завершилась радикальной гистерэктомией без придатков с тазовой лимфаденэктомией ввиду небезопасного эндоцервикального края резекции. В период наблюдения после операции менструальная функция восстановилась у 11 из 12 (91,7%) пациенток, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии, как эндометрия, так и яичников после проведенного лечения [2].
По данным акушеров-гинекологов из Новосибирского государственного университета, Новосибирского областного онкологического диспансера и Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А.Герцена известно, что выполнение РАТ с сохранением маточных сосудов возможно у больных с IA2 стадией РШМ. При IB1, IB2 стадиях болезни, когда требуется максимальное удаление пришеечной клетчатки, сохранение маточных сосудов выполнить трудно. В течение 2 лет было успешно прооперировано 16 пациенток, страдающих РШМ со стадиями болезни IA2-IB2. Средний возраст женщин составил 33±4 года. У 5 человек выполнена РАТ с сохранением маточных сосудов, у 11 пациенток – без сохранения сосудов матки. Средняя продолжительность операции составляла 2–2,5 часа, при этом кровопотеря была не более 350– 400 мл. В ходе гистологического анализа полученных образцов у всех пациенток определен плоскоклеточный РШМ, из них IA2 стадия констатирована у 5 больных (31,2%), IB1 – у 9 (56,3%), IB2 стадия – у 2 женщин (12,5% случаев). В ходе динамического наблюдения ни у одной из прооперированных ранее больных не диагностирован рецидив заболевания [8].
Специалисты из отделения акушерства и гинекологии высшей медицинской академии Осаки считают, что радикальная трахелэктомия (влагалищная, абдоминальная, лапароскопическая) вызывает значительные перитонеальные повреждения, что, в свою очередь, может привести к спаечному процессу в области яичников. Поэтому, чтобы свести к минимуму перитонеальный ущерб, они разработали новый вариант данной операции – экстраперитонеальную радикальную трахелэктомию с тазовой лимфаденэктомией. Все хирургические процедуры, связанные с радикальной трахеэктомией и тазовой лимфаденэктомией, выполнялись с помощью внеперитонеального подхода. В ходе этой процедуры были сохранены маточные артерии, подчревный нерв и тазовый нерв. Экстраперитонеальная нерво–щадящая радикальная трахелэктомия с тазовой лимфаденэктомией была выполнена у 3 японских пациенток с начальными стадиями РШМ IA2 и IB1. У всех пациенток полный исход заболевания был достигнут без каких-либо интраоперационных осложнений. Насколько известно, это первый отчет об экстраперитонеальной радикальной трахелэктомии у пациенток с начальными стадиями РШМ. Можно безопасно проводить данное хирургическое вмешательство, поскольку есть возможность избежать перитонеальное повреждение, которое может вызвать спаечный процесс в околояичниковом пространстве. Специалисты считают, что этот хирургический подход может быть идеальным вариантом лечения для женщин с начальными стадиями РШМ, которые хотят сохранить свою репродуктивную функцию [9].
Одним из актуальных и нерешенных вопросов является необходимость укрепления нижнего сегмента матки и формирование «запирательного» аппарата для вынашивания последующей беременности в условиях отсутствия шейки матки. Недостаточность запирательной функции перешейка матки (истмико-цервикальная недостаточность) может привести к механическому опусканию и пролабированию плодного пузыря, что создает условия для его инфицирования. Было проведено исследование, целью которого явилась разработка способа формирования запирательного аппарата матки у больных РШМ после РАТ. В исследование вошли 26 больных РШМ I стадии, находившихся в репродуктивном возрасте, получивших лечение в объеме РАТ в отделении онкогинекологии ФГБУ «НИИ онкологии» с 2012 по 2014 г. Больные РШМ I стадии были разделены на следующие подстадии: IА1 стадия — 7 больных (27%); IА2 — 8 женщин (31%); IВ1 — 11 пациенток (42%). Морфологически у всех пациенток, включенных в исследование, был плоскоклеточный неороговевающий рак различной степени дифференцировки. Средний возраст больных составил 28,7±4,5 лет. В ходе проведения оперативного лечения в объеме РАТ после наложения маточно–влагалищного анастомоза проводилось укрепление нижнего сегмента матки с помощью сверхэластичного сетчатого протеза, а именно – установка и фиксация его с моделированием по месту установки в границах от нижнего сегмента матки до верхней трети влагалища. Динамическое наблюдение за данной категорией больных в послеоперационном периоде проводилось с помощью ультразвукового мониторинга органов малого таза. Кроме того, в послеоперационном периоде проводилась оценка состояния нижнего сегмента матки и зоны анастомоза методом обзорной рентгенографии [10].
Клиника онкогинекологии МНИОИ им. П.А. Герцена располагает наиболее значимым опытом органосохраняющего лечения инвазивного РШМ, насчитывающим 120 прослеженных больных после радикальной трахелэктомии. Как абдоминальный, так и влагалищный варианты операции показали высокую онкологическую эффективность, сравнимую с таковой при выполнении радикальной гистерэктомии у пациенток с сопоставимыми размерами опухоли [7].
В то же время, РАТ продемонстрировала сравнительно низкие репродуктивные результаты. Только 23 (34%) из 71 больной с сохраненной фертильностью продолжили репродуктивные намерения после лечения, среди последних зафиксировано 12 беременностей и 7 рожденных детей. В целом, лишь 9,9% пациенток, перенесших РАТ, смогли реализовать репродуктивную функцию. В качестве причин столь низких репродуктивных показателей рассматриваются негативный психологический эффект операции, способствующий отказу пациенток от желания иметь детей; цервикальный фактор и спаечный процесс; препятствующие наступлению беременности; значительное уменьшение объема шейки матки; и, как следствие, высокий процент невынашивания во втором и в третьем триместре беременности. В отличие от РАТ, РВТ показала лучшие репродуктивные результаты. Беременность наступает у 50–70% больных, сохранивших репродуктивные намерения, и у 55–62% из них беременность достигает III триместра. Это связывают с малой травматичностью операции с сохранением нативного кровоснабжения тела матки и меньшей выраженностью послеоперационных спаек [7].
Последствия радикальной вагинальной трахелэктомии
Пациенты после РВТ нуждаются в специальном последующем лечении и наблюдении, так как их проблемы отличаются от проблем других онко-гинекологических пациентов. Анатомические послеоперационные изменения осложняют процессы обследования. Вопросы о возможности разрешения этих проблем должны решать высококвалифицированные врачи. Акушеры-гинекологи с кафедры гинекологии Берлинского университета оценили данные о наблюдении за 70 пациентками, перенесшими РВТ в период с марта 2010 г. по декабрь 2013 г., и выяснили, что главной проблемой после РВТ стал цервикальный стеноз. Наиболее значимая проблема врачей заключалась в том, чтобы определить точное положение остаточной части шейки матки и, таким образом, получить достоверные мазки [11].
Первый опыт применения вспомогательных репродуктивных технологий после радикальной абдоминальной трахелэктомии
Пациентка Р., 34 года. При комплексном обследовании был выявлен РШМ IB1 стадии (T1b1N0M0), гистологическая форма опухоли — умеренно-дифференцированный плоскоклеточный рак. В анамнезе одна беременность, завершившаяся в 1999 г. срочными родами. Учитывая начальную стадию заболевания, молодой возраст и настойчивое желание пациентки сохранить репродуктивную функцию, в декабре 2005 г. выполнено хирургическое лечение в объеме РАТ. На основании планового гистологического исследования, онкологическое лечение было завершено. В связи с тем, что в течение 3-х лет регулярной половой жизни без предохранения самостоятельной беременности не наступало, пациентке была рекомендована консультация репродуктолога. В феврале 2011 г. в перинатальном медицинском центре ей была проведена программа ЭКО с индукцией суперовуляции. Через 2 недели после переноса эмбриона была зарегистрирована биохимическая беременность, в последующем подтвердившаяся при ультразвуковом исследовании. На 35-й неделе беременности диагностировано преждевременное излитие околоплодных вод и в срочном порядке произведено кесарево сечение. Родился мальчик массой тела 2700 г, рост 47 см. Таким образом, благодаря использованию вспомогательных репродуктивных технологий, в России впервые родился ребенок у пациентки, излеченной от инвазивной формы РШМ [12].
Сравнение результатов после радикальной абдоминальной трахелэктомии и малоинвазивного хирургического вмешательства
Гинекологи–онкологи из Бразилии, Колумбии и США провели ретроспективный анализ пациентов с начальными стадиями РШМ, которые подверглись радикальной трахелэктомии в период с июня 2002 года по июль 2013 года. Сравнивались интраоперационные показатели, а также показатели онкологической эффективности и фертильности у пациентов, подвергшихся РАТ и малоинвазивному хирургическому вмешательству (лапароскопия). В анализ было включено 100 пациенток, 58 из них подверглись открытой радикальной трахелэктомии, а 42 пациентки прошли минимально инвазивное хирургическое вмешательство. Не было различий в возрасте пациенток, индексе массы тела, расе, гистологии, инвазии в лимфо-васкулярное пространство или стадии между двумя группами. Результаты исследования показали, что кровопотеря была значительно ниже и продолжительность госпитализации короче в случае малоинвазивного хирургического вмешательства. Однако в ходе данной операции произошло 2 интраоперационных осложнения: повреждение мочевого пузыря и фаллопиевой трубы. В случае открытой радикальной трахелэктомии отмечено 1 интраоперационное осложнение – повреждение сосудов. Среди послеоперационных осложнений различий не наблюдалось. Частота беременностей была выше в группе открытых операций, по сравнению с группой малоинвазивных. Таким образом, можно сделать вывод, что показатели рождаемости выше у пациентов, подвергшихся открытой радикальной трахелэктомии [13].
Менструальный цикл после радикальной абдоминальной трахелэктомии
Акушеры – гинекологи из Шанхайского онкологического центра провели исследование, в ходе которого наблюдали за менструальным циклом пациенток после РАТ и сравнивали их показатели с показателями до операции. Пациентки были разделены на 3 группы в зависимости от их менструального статуса после трахелэктомии: группа 1 – менструальный цикл без изменений; группа 2 – менструальный цикл изменился, но аменорея отсутствует; группа 3 – аменорея. Исследование включало 129 пациенток. Из них 39 (30,2%) женщин относились к 1 группе, 74 (57,4%) – ко 2 группе и 16 (12,4%) – к группе 3. Для пациентов в группе 2 основным симптомом было снижение объема менструаций, а затем продолжительное менструальное кровотечение. Все изменения у пациенток группы 2, а также у пациенток группы 3 были обусловлены сужением остаточной части шейки матки. Также у 9 пациенток из группы 2 и у 12 пациенток из группы 3 развился стеноз шейки матки. Для поддержания регулярных менструаций и предотвращения ишемического стеноза у 99 пациентов были введены внутриматочные спирали (ВМС). Менструальный цикл восстановился у всех пациенток, кроме одной, после расширения остаточной части шейки матки. Таким образом, результаты показали, что сужение остаточной части шейки матки было основной причиной изменений менструального цикла, и скорректировать это можно путем расширения шейки матки с помощью ВМС [14].
Лапароскопическая радикальная трахелэктомия: результаты
В Аргентине, Буэнос-Айресе гинекологи-онкологи провели исследование, целью которого было оценить возможность реализации и эффективность лапароскопической радикальной трахелэктомии, а также риски послеоперационных осложнений. В исследование вошли 4 пациентки с начальными стадиями РШМ, которым была проведена лапароскопическая трахелэктомия в период с декабря 2011 года по май 2013 года. Стадия опухоли у всех 4 пациенток была IB. Средний возраст пациенток составил 26 лет, средний индекс массы тела – 21 кг/м2, а средняя продолжительность пребывания в больнице составила 33 часа. Длительность операции в среднем составляла 225 минут. Никаких интраоперационных осложнений не наблюдалось. В послеоперационном периоде только у 1 пациентки был отмечен левосторонний отек вульвы, который разрешился самопроизвольно. В среднем было удалено 18 тазовых лимфатических узлов. Ни в одном случае не было необходимости перехода на лапаротомию. Таким образом, лапароскопическая радикальная трахелэктомия, выполненная обученными хирургами, это возможный и безопасный метод лечения начальных стадий РШМ, позволяющий молодым женщинам сохранить фертильность [15].Перспективными направлениями исследований являются оценка онкологической эффективности, разработка реабилитационных мероприятий (психологические, физиотерапевтические, лекарственные), оценка особенностей фертильности, течения беременности, перинатальных исходов, а также качества жизни больных после проведенного органосохраняющего лечения [16].
Заключение
В настоящее время органосохраняющее лечение в объеме радикальной трахелэктомии занимает достойное место среди хирургических вмешательств, выполняемых в современной онкогинекологии.