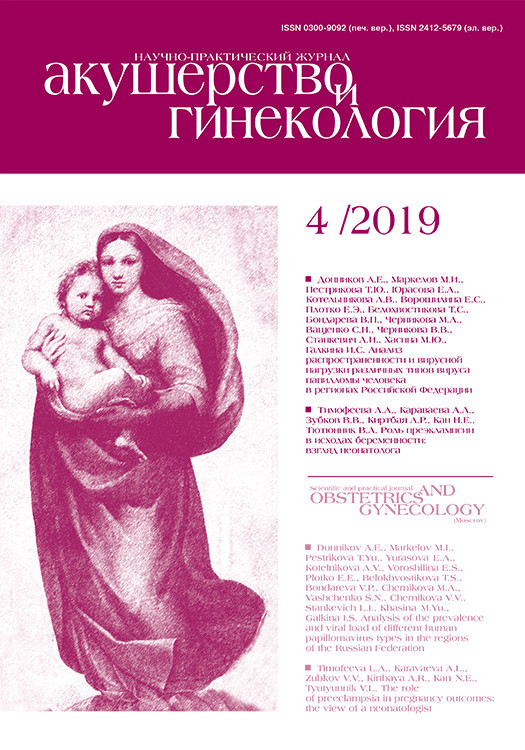Современные представления об эритропоэтине
В традиционном представлении, сложившемся в физиологии к концу XX века, эритропоэтин (ЭПО) является гемопоэтическим гормоном, ответственным за пролиферацию, дифференциацию и угнетение апоптоза в чувствительных к нему клетках кроветворной ткани [1–3].
Современные научные данные о молекулярных механизмах образования и воздействия ЭПО свидетельствуют о том, что они состоят из нескольких уровней регуляции. Первый уровень связан с фактором, индуцируемым гипоксией (HIF), наиболее изученным является HIF-1. Снижение парциального давления кислорода (гипоксия) и активация клеточного кислородного сенсора приводят к экспрессии гена HIF [2]. Второй уровень обусловлен тем, что HIF-1 связывается с гипоксичувствительным элементом, локализованным в гене ЭПО, с последующей активацией этого гена [1]. Продукция ЭПО у человека осуществляется, главным образом, перитубулярными и тубулярными клетками почек. Однако 10–15% ЭПО плазмы крови имеет внепочечное происхождение [1–3]. Запасов ЭПО в организме не обнаружено. Третий уровень связан с состоянием рецепторов ЭПО и процессом рецепции. ЭПО соединяется со специфическими рецепторами на наружной мембране ЭПО-чувствительных клеток, что через активацию Jak2-тирозин киназы приводит к запуску фосфорилирования ключевых молекул, ответственных за пролиферацию и дифференциацию ЭПО-чувствительных клеток – Ras – митогенактивирующей протеинкиназы, фосфатидилинозитол-3-киназы/Akt, янусовой тирозинкиназы-2, факторов транкрипции: сигнального трансдуктора и активатора транскрипции-5, GATA-1 (эритро́идный фа́ктор транскри́пции), GATA-2, NF-2, NF-kB и др., активации экспрессии членов «семьи» bcl-xL и синтеза контролируемых ими антиапоптозных белков, подавляя апоптоз ЭПО-чувствительных клеток [1, 3].
В работах последних лет появились данные о синтезе ЭПО и экспрессии рецепторов ЭПО гепатоцитами, окружающими венозные сосуды печени, печеночными макрофагами, ядросодержащими эритроидными клетками костного мозга, селезенки, клетками эпикарда, перикарда и миокарда, клетками центральной нервной системы (ЦНС), тканями женской репродуктивной системы (молочные железы, матка), плаценты, эмбриональными тканями [1–6].
В настоящее время выявлены системные плейотропные протективные эффекты ЭПО в условиях его повышенной продукции. Согласно данным литературы, ЭПО увеличивает длительность функционирования эндотелиальных клеток при кислородном голодании, обладает антиапоптическим эффектом по отношению к клеткам эндотелия, вызывает активацию эндотелиальной NO-синтетазы и предотвращает ангиоспазм, уменьшает NO-токсичность и обладает прямым антиоксидантным эффектом [6]. Ренопротективные эффекты ЭПО связаны с увеличением регенерации эпителия канальцев почек и восстановлением функционального аппарата почки, уменьшением воспалительной реакции и дегенерации тканей. В печени ЭПО также снижает уровень окислительного стресса, воспаления и тканевую альтерацию [1, 2]. Нейропротективное действие ЭПО обусловлено антиапоптозными, противовоспалительными, антиокислительными, антинейротоксичными, нейротрофическими эффектами, активацией нейронной регенерации, защитой белого вещества головного мозга от отека [2, 6].
Фактором, индуцирующим синтез ЭПО, является гипоксия различного генеза [1–3, 7]. Установлено, что при анемии уровень ЭПО в сыворотке повышается экспоненциально уменьшению содержания гемоглобина или величины гематокрита [7]. Неадекватно низкая продукция ЭПО может быть связана с хронической почечной недостаточностью или анемиями хронических заболеваний при онкопатологии, ВИЧ, хронических инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах неинфекционной природы [7, 8].
ЭПО-статус при беременности, осложненной преэклампсией
При нормальной беременности происходит повышение концентрации сывороточного ЭПО, что обеспечивает физиологическую ЭПО-зависимую стимуляцию эритропоэза [9].
В настоящее время активно исследуется ЭПО-статус у беременных с преэклампсией, участие ЭПО в патогенезе ее развития [9–12]. Гипоксия различного генеза [1–3], в том числе и плацентарная [13], является фактором, индуцирующим синтез ЭПО почками. Поэтому при развитии преэклампсии на фоне ишемии плаценты ожидается увеличение уровня ЭПО в системном кровотоке матери. Однако результаты этих исследований при преэклампсии противоречивы. Kosiński P. et al. (2016) приводят данные о повышении уровня ЭПО в первом триместре гестации у женщин с аномальной плацентацией и преэклампсией, а также о наличии корреляции между концентрацией ЭПО и пульсационным индексом в маточных артериях. Авторами было сделано предположение, что концентрация ЭПО в первом триместре беременности может рассматриваться, как возможный маркер плацента-ассоциированных осложнений беременности [10]. Wolfson G.H. et al. (2017), изучив уровень ЭПО у беременных с преэклампсией, не выявили достоверных изменений указанного параметра. Однако отмечено увеличение показателя растворимого рецептора ЭПО, который, как предполагается, связывает ЭПО и препятствует его плейотропным протективным эффектам на эндотелий [12]. Brunacci F. et al. (2018) зарегистрировали снижение уровня эндогенного ЭПО сыворотки крови женщин с преэклампсией без анемического синдрома, что сопровождалось более низкими уровнями гепсидина на фоне увеличения содержания ферритина и провоспалительных цитокинов интерлейкина-6, фактора некроза опухоли-α [11]. Бурлев В.А. и соавторы (2013) отмечают синдром неадекватной продукции ЭПО у беременных с анемией и преэклампсией [9].
Согласно результатам нашего исследования, при беременности, осложненной тяжелой, а также ранней (с началом до 34 недель) преэклампсией с первого триместра гестации регистрируется неадекватная продукция ЭПО, ассоциированная с относительным снижением числа ретикулоцитов. В динамике течения беременности отмечено формирование, так называемого, перераспределительного дефицита железа с развитием анемического синдрома, который приобретает черты анемии хронических заболеваний с сохранением признаков угнетения эритропоэза и неадекватной продукцией ЭПО. При умеренной преэклампсии в первом триместре зарегистрировано незначительное увеличение сывороточного уровня ЭПО, однако при этом число пациенток с неадекватной продукцией ЭПО превышало данный показатель беременных без преэклампсии [14, 15]. На основании результатов ROC-анализа установлено, что эффективными клинико-лабораторными предикторами тяжелой преэклампсии в первом триместре гестации являются показатели ЭПО менее 9,61 мМЕ/мл (специфичность 88,6%, чувствительность 75,0%, точность 81,8%) и КАэпо менее 0,758 (специфичность 76,4%, чувствительность 75,0%, точность 75,7%). Наличие неадекватной продукции ЭПО в первом триместре повышает риски ранней преэклампсии практически в 10 раз (ОР 9,88, 95% ДИ 1,23…79,55). Установлены положительные корреляционные связи случаев неадекватной продукции ЭПО с тяжестью и ранней манифестацией преэклампсии, суб- и декомпенсированной плацентарной недостаточностью, случаями гипотрофии и асфиксии новорожденного, что указывает на вероятное участие ЭПО в механизмах развития данной акушерской патологии [14–16].
Особенности плацентарной экспрессии эпокрина при преэклампсии
В настоящее время доказано, что ткани матки, плаценты, эмбриональные ткани являются одновременно и ЭПО-чувствительными, и ЭПО-продуцирующими [1, 4–6]. ЭПО активирует ангиогенез, обладает митогенным и антиапоптозным действием, что не исключает его участие в неопластических процессах [1, 2, 8]. Имплантация плодного яйца, инвазия цитотрофобласта в стенки спиральных артерий эндометрия, а затем миометрия являются ничем иным, как примером дозированного опухолевого роста, который контролируется прогестеронзависимой иммуносупрессией [17]. Таким образом, нельзя исключить участие ЭПО в процессах имплантации, а повышение содержания ЭПО в периферической крови с ранних сроков беременности может быть связано с увеличением его продукции тканями плодного яйца и матки.
Согласно данным литературы, на ранних сроках беременности дифференцировка трофобласта происходит в среде относительно низкой напряженности кислорода, что необходимо для нормального развития эмбриона и формирования плаценты [18, 19]. Такое гипоксическое состояние на уровне хориона на сроке менее 10 недель сопровождается высокой экспрессией HIF-1α [18, 19]. Предположено (Zamudio S. et. al., 2007), что ядерная транскрипция HIF-1α клетками трофобласта способствует транспорту кислорода через плаценту посредством увеличения синтеза ЭПО, стимуляции эритропоэза и плацентарного неоангиогенеза за счет повышения уровня трансформирующего фактора роста β-3 и фактора роста эндотелия сосудов [13]. Ji Y.Q. et. al. (2011) установили, что при самопроизвольном аборте в первом триместре в трофобласте и децидуальных стромальных клетках наблюдается снижение экспрессии ЭПО, рецепторов ЭПО и HIF-1α, что позволило сделать вывод о благоприятном влиянии ЭПО на пролиферацию и выживание клеток трофобласта и децидуальных стромальных клеток человека в первом триместре [5].
На сроке беременности 10 недель, когда увеличивается межворсинчатый кровоток, происходит нарастание парциального давления кислорода, что коррелирует со временем максимальной инвазии трофобласта и позволяет экстравиллезным клеткам трофобласта проникнуть в материнские спиральные артерии. С этого момента при нормальном течении беременности происходит снижение плацентарной эспрессии HIF-1α и, вероятно, ЭПО. Если напряжение кислорода не увеличивается или трофобласт по каким-то причинам остается нечувствительным к состоянию гипероксии, плацентарная экспрессия HIF-1 и, как следствие, ЭПО остается высокой, что приводит к недостаточной инвазии трофобласта и предрасполагает к развитию преэклампсии [18, 19].
Действительно, Sezer S.D. et al. (2013) выявили, что уровень HIF-1 в плаценте пациенток с преэклампсией был значительно выше, чем в плаценте здоровых беременных. Однако исследователями не установлено никакой зависимости этих показателей от времени манифестации преэклампсии [20]. Kimura C. et al. (2013) установили несколько повышенную плацентарную экспрессию HIF-1α при раннем начале преэклампсии [21]. Liu W. et al. (2014) выявили изолированное увеличение экспрессии HIF-2α (но не HIF-1α) в трофобласте при преэклампсии, причем уровень экспрессии HIF-2α обратно коррелировал со сроком манифестации преэклампсии [22].
На сегодняшний день доказано, что ЭПО принимает непосредственное участие в регуляции процессов клеточной пролиферации и апоптоза при гипоксии [1–3]. Несомненно, преэклампсия и плацентарная недостаточность сопровождаются ишемией плаценты [17, 23–25], поэтому ожидается повышение выработки ЭПО на уровне плаценты с активацией процессов ЭПО-опосредованных программ клеточного обновления.
В результате проведенного нами морфологического исследования плаценты при преэклампсии, чаще ранней или тяжелой, зарегистрировано значительное увеличение плацентарной экспрессии ЭПО в эндотелии капилляров, в макрофагах стромы ворсин и, особенно, в синцитиотрофобласте [26–28]. Одновременно при изучении процессов клеточного обновления установлено, что в эндотелии капилляров и в макрофагах стромы плаценты преобладали маркеры клеточной пролиферации ki-67 и антиапоптоза bcl-2. Однако в симпластотрофобласте, наряду с процессами клеточной пролиферации, были активизированы программы апоптоза с увеличением экспрессии р53, а количество маркеров антиапоптоза bcl-2 оказалось очень низким [26–29].
Впервые нами установлено, что повышенная экспрессия ЭПО в эндотелии сосудов и макрофагах стромы ворсин сопровождается увеличением экспрессии в этих клетках маркеров антиапоптоза и клеточной пролиферации, что может являться компенсаторно-приспособительной реакцией в условиях плацентарной ишемии при преэклампсии. Следует отметить, что при преэклампсии, особенно ранней и тяжелой, в плаценте отмечено значительное увеличение числа макрофагов с высокой пролиферативной активностью, потенцированной повышенной экспрессией ЭПО. Согласно данным литературы, избыточная макрофагальная инфильтрация децидуальной оболочки может способствовать апоптозу клеток трофобласта с нарушением его инвазии [30], что рассматривается в качестве одной из теорий развития преэклампсии [25].
По современным данным, синцитиотрофобласт является наиболее метаболически активной тканью плаценты [17]. Однако степень компенсаторно-приспособительных реакций в синцитии при преэклампсии, несмотря на высокую экспрессию активатора клеточного обновления ЭПО, оказалась резко сниженной, что на морфологическом уровне сопровождалось повышением экспрессии маркеров проапоптоза на фоне повышения активности процессов клеточной пролиферации [26, 27].
Нами были зарегистрированы статистически значимые положительные корреляционные связи случаев неадекватной продукции ЭПО с показателями плацентарной экспрессии ЭПО, а также с маркерами про- и антиапоптоза, клеточной пролиферации в структурах плаценты [16, 26, 27]. Таким образом, указанные изменения на уровне плаценты при развитии и нарастании тяжести преэклампсии связаны не с истинным количественным уровнем ЭПО сыворотки крови беременных женщин, а с формированием его неадекватной продукции. Кроме того, выявлены корреляционные связи плацентарной экспрессии ЭПО, маркеров клеточной пролиферации, про- и антиапоптоза с акушерскими осложнениями (ранняя и тяжелая преэклампсия, суб- и декомпенсированная плацентарная недостаточность, гипотрофия и асфиксия новорожденного), что свидетельствует об однотипных/ взаимосвязанных механизмах формирования указанной акушерской патологии с вероятным участием ЭПО и процессов клеточного обновления в патогенезе их развития [16, 26–29].
Обсуждение роли эпокрина в механизмах формирования преэклампсии
Нами предложена схема участия ЭПО в патогенезе преэклампсии (рисунок).

Согласно современным представлениям, причиной развития преэклампсии является нарушение инвазии трофобласта и плацентарная ишемия [23–25]. Предполагается, что в основе формирования указанной патологии лежит дисбаланс факторов, регулирующих ангиогенез, процессы апоптоза и клеточной пролиферации в плаценте [25]. Одним из таких факторов является ЭПО [1–3], поэтому нельзя исключить участие ЭПО в процессах инвазии цитотрофобласта, формирования плацентарной недостаточности и развития преэклампсии. В условиях плацентарной ишемии вследствие экспрессии HIF-1 увеличивается транспорт кислорода через плаценту в связи с повышением синтеза ЭПО, стимуляцией эритропоэза и плацентарного неоангиогенеза, что отражает паракринную роль ЭПО в процессах выживания, пролиферации и дифференцировки клеток плацентарного трофобласта [13].
Фактором, индуцирующим почечную продукцию ЭПО, является гипоксия различного генеза [1–3], в том числе и плацентарная [13]. Поэтому при развитии преэклампсии на фоне ишемии плаценты ожидается увеличение уровня ЭПО в системном кровотоке матери. Действительно, результаты нашего исследования указывают на незначительное повышение сывороточного ЭПО при умеренной преэклампсии [14], что подтверждается рядом авторов [10]. Указанные изменения ЭПО мы связываем с увеличением не только почечной, но и плацентарной продукции данного гормона. Однако случаи тяжелой и ранней преэклампсии с первого триместра гестации сопровождались неадекватной продукцией ЭПО [14, 15], что также подтверждается данными современной литературы [9, 11]. Снижение уровня материнского сывороточного ЭПО, вероятно, обусловлено нарушением его почечной и, возможно, плацентарной продукции. Угнетение синтеза ЭПО почками, как мы считаем, связано с повышенным уровнем провоспалительных цитокинов (фактор некроза опухоли, интерлейкин-1) [1], продукция которых в условиях системного воспалительного ответа при преэклампсии значительно увеличивается, в том числе – ишемизированной плацентой. Нельзя исключить вероятность, что при низких концентрациях интерлейкинов на начальных этапах формирования преэклампсии характерен повышенный синтез ЭПО, а при ее тяжелой степени с ранней манифестацией, когда количество цитокинов резко увеличивается, возможно, происходит снижение образования ЭПО. Этим, вероятно, объясняются такие неоднозначные результаты исследований, посвященных изучению ЭПО-статуса при преэклампсии. Следует отметить, что при развитии и нарастании тяжести преэклампсии у беременных формируется ЭПО-дефицитная анемия, которая дополнительно приводит к гемической гипоксии, замыкая порочный круг. Не следует исключать системные плейотропные протективные эффекты ЭПО [1–3]. Мы предполагаем, что в условиях неадекватной продукции ЭПО при тяжелой или ранней преэклампсии снижается цитопротективное действие этого гормона на органы-мишени (эндотелий, печень, почки, центральная нервная система), что, вероятно, способствует развитию полиорганной недостаточности.
Заключение
Таким образом, изучение ЭПО-статуса во время беременности на современном этапе является актуальной проблемой, так как участие этого гормона в патогенезе преэклампсии и плацентарной недостаточности не вызывает сомнений. Однако, исследования в этой области пока единичны и требуется их дальнейшее продолжение с целью выяснения значения этого гормона в развитии гестационной патологии.