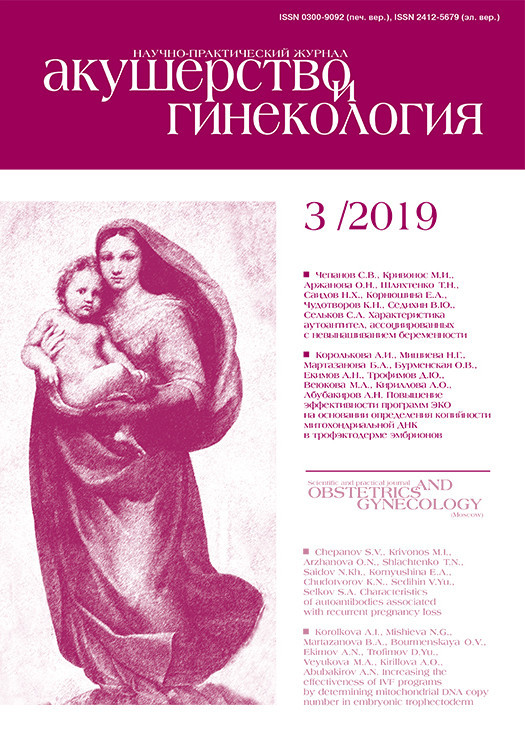Бактериальный вагиноз (БВ) – одна из наиболее распространенных вагинальных инфекций у женщин репродуктивного возраста. Частота заболевания варьирует от 10 до 50% в зависимости от популяции женщин [1–4]. В норме влагалище заселяют лактобациллы, продуцирующие перекись водорода, которые играют важную роль в обеспечении колонизационной резистентности вагинального биотопа [5–6]. БВ характеризуется как клинический полимикробный невоспалительный синдром, возникающий в результате замены нормальной микрофлоры влагалища на повышенную генерацию многочисленных видов строгих анаэробов (Bacteroides/Prevotella spp., Mobiluncus spp., Veillonella spp. Atopobium vaginae (A. vaginae) и др.) и Gardnerella vaginalis (G. vaginalis) [5, 7].
В соответствии с диагностическими критериями Amsel R. [8] БВ сопровождается увеличением рН влагалищного отделяемого до 4,5 и более, характеризуется положительным аминотестом, наличием «ключевых» клеток и жидкими пенистыми выделениями серовато-беловатого цвета. Симптомы БВ: выделения из влагалища с неприятным запахом и легкое раздражение. В настоящее время различают три клинические формы БВ: острый, рецидивирующий и протекающий бессимптомно.
G. vaginalis – единственный микроорганизм, который в 95% случаев встречается в вагинальном биотопе женщин с БВ, чаще в составе ассоциаций микроорганизмов, реже – как моновозбудитель [9]. У пациенток с рецидивирующим БВ G. vaginalis может встречаться в 100% случаев [10]. Однако G. vaginalis не всегда вызывает БВ и в низких титрах может присутствовать во влагалище здоровых женщин [11–13]. При БВ влагалище колонизировано полимикробными ассоциациями облигатно-анаэробных бактерий и G.vaginalis. Однако, является ли появление симптомов заболевания результатом ассоциативного воздействия всех членов микробиоты или влиянием одного из ключевых видов, в том числе G.vaginalis, долгое время остается предметом дискуссий. Установлено, что G.vaginalis располагает набором генов, контролирующих продукцию множества факторов вирулентности, что породило всплеск активности в изучении ее этиологической роли в развитии БВ [14, 15].
Получены убедительные данные, что БВ связан с бесплодием [16], неблагоприятным исходом беременности [17], неопластическими процессами в шейке матки, хроническим и послеродовым эндометритом, увеличивает риск заражения венерическими заболеваниями [18]. Особое место занимают инфекционные процессы, ассоциированные с G.vaginalis, но топически не связанные с репродуктивной системой женщин. Описаны случаи инфекций мочевыводящих путей, баланита, уретрита, септицемии в сочетании с пиелонефритом, эндокардитом и септической эмболией в почках и сердце у мужчин [19], васкулита сетчатки [20], острого артрита [21], остеомиелита позвоночника [22]. Тем не менее, в литературе продолжает дискутироваться вопрос о роли G.vaginalis при БВ. Многие виды микроорганизмов, ассоциированных с БВ, способны вегетировать только в организме человека, что долгое время не позволяло создать надежную модель БВ на животных и также тормозило изучение механизмов развития этого заболевания. Однако первый реальный опыт создания модели БВ, вызванного G.vaginalis, на мышах [23], а также быстрое накопление знаний об этом микроорганизме, особенно с развитием молекулярной генетики, позволяющей открывать его генетические особенности и патогенные свойства, внесли существенный вклад в доказательную базу патогенетической роли G. vaginalis при БВ.
Основными причинами рецидивирования БВ являются: нерациональная антибактериальная терапия, недостаточная активность лактобацилл, гипоэстрогения, сопутствующие супрессивные состояния, присутствие факторов риска, набор факторов вирулентности, в том числе у G.vaginalis, образование биопленок и быстро возникающая резистентность микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
В 1950 году Leopold S. [24], а затем Gardner H.L. и Dukes C.H. [11] обнаружили мелкие плеоморфные грамвариабельные палочки в вагинальном отделяемом женщин. Этот микроорганизм сначала назвали Haemophilus vaginalis, впоследствии неоднократно переименовывали и теперь он носит название G.vaginalis и является единственным представителем рода Gardnerella [25]. На основании анализа гена 16S рРНК G. vaginalis отнесенa к семейству Bifidobacteriaсеае. Для лучшего понимания роли G.vaginalis в развитии БВ, а также для изучения эпидемиологических аспектов этого заболевания проводились многочисленные исследования, направленные на выявление общевидовых свойств и штаммовых различий этого микроорганизма. На ранних этапах изучения G. vaginalis разделили на 7 серологических групп с помощью реакции преципитации, но эта система типирования не нашла широкого применения. Позднее Piot P. и соавт. [25] предложили простую, легко воспроизводимую схему биотипирования G. vaginalis на основе трех тестов: оценке липазной и бета-галактозидазной активности и гидролизе гиппурата. В соответствии с этой схемой внутри вида G. vaginalis различают 8 биотипов. При исследовании 359 клинических изолятов G. vaginalis, выделенных от пациенток с БВ и здоровых женщин, а также от мужчин – половых партнеров женщин с БВ выявлено 8 биотипов, среди которых наиболее часто встречались 1, 2 и 5 биотипы независимо от региона проживания (Антверпен, Сиэтл, Найроби). При БВ превалировали два биотипа. У пациенток с неэффективным лечением БВ определялся тот же биотип, что и до лечения. Одинаковые биотипы выявлены у женщин с БВ и их половых партнеров не позднее 24 часов после полового акта. В 2006 году предложена модификация этой схемы, число биотипов в которой расширилось до 17 [26]. При исследовании 197 штаммов, выделенных у женщин с бессимптомным носительством G. vaginalis и у пациенток с клиническими проявлениями БВ показано, что распределение биотипов оказалось сходным в обеих группах, но некоторые биотипы все же чаще обнаруживали у пациенток с проявлениями БВ.
Briselden A.M. и Hiller S.L. [27] согласно схеме типирования, разработанной Piot P. и соавт, изучили 261 изолят G.vaginalis: 149 от женщин с БВ и 112 – от здоровых женщин. Наиболее часто встречающимися оказались биотипы 5 (41%), 6 (15%) и 1 (13%). У женщин с БВ преобладающими были липазо-положительные биотипы 1, 2, 3 и 4, которые встречались почти в 2 раза чаще, в сравнении со здоровыми женщинами. Авторами установлено, что 86% женщин, получивших этиотропное лечение БВ, через 4 месяца приобрели новый биотип G. vaginalis. Попытки обнаружить возможную корреляцию между различными биотипами G. vaginalis и набором факторов вирулентности показали, что факторы вирулентности напрямую не коррелируют с теми или иными биотипами. Например, Udayalaxmi J. и соавт. [28] сообщают о превалировании 1 (25%) и 2 (21,9%) биотипов среди штаммов G. vaginalis, выделенных у женщин с БВ, реже – 5 и 8 (15,6%). У всех штаммов изучены факторы вирулентности: адгезия к вагинальному эпителию, образование биопленок, продукция фосфолипазы С и протеазная активность. Экспрессируемые G. vaginalis факторы вирулентности не ассоциировались с каким-либо одним биотипом.
С развитием молекулярно-генетических методов исследования G.vaginalis стала объектом пристального изучения. Одним из наиболее ранних методов таргетного генотипирования гарднерелл является рестрикционный анализ амплифицированной рибосомальной ДНК (ARDRA) [29], который выявляет три-четыре генотипа G. vaginalis. Показано, что этот метод можно использовать для изучения этиопатологии G. vaginalis. Другим популярным методом генотипирования гарднерелл стал метод произвольно амплифицированной полиморфной ДНК (RAPD) [30]. Однако более удобные и точные – методы, основанные на секвенировании отдельных локусов ДНК. Чаще всего проводится либо секвенирование 16S рРНК, либо нуклеотидной последовательности шаперонина-60 (cpn60). Hummelen R. и соавт. выявили четыре типа нуклеотидных последовательностей в районе V6 16S рРНК, отличающихся всего на один нуклеотид [31]. Метод, основанный на применении секвенирования cpn60 для изучения вагинальной микробиоты был разработан и апробирован в 2005 году Hill J.E. и соавт. [32]. Шаперонин-60 является универсальным для всех эубактерий белком, и его ген cpn60 больше подходит для типирования и филогенетических исследований бактерий, чем ген 16S рРНК, так как он более вариабельный и вариации в нем расположены по всей длине гена. По результатам анализа нуклеотидной последовательности гена cpn60 выделяется 4 кластера последовательностей, идентичных последовательности референсного штамма G. vaginalis ATCC 14018 от 89 до 100% [33].
Имеются работы с попытками обнаружить взаимосвязь генотипов с биотипами и факторами вирулентности. Lopes dos Santos Santiago G. и соавт. при типировании 134 штаммов G. vaginalis с помощью методов ARDRA и RAPD выявили три генотипа, из которых только два продуцировали сиалидазу – фактор вирулентности [34]. Сделано предположение о возможной взаимосвязи между продукцией сиалидазы и БВ. В работе Paramel Jayaprakash T. и соавт. построено филогенетическое древо последовательностей гена cpn60, которое показало существование четырех подгрупп G. vaginalis [35]. Не обнаружено корреляции подгрупп с биотипами, но выявлена взаимосвязь с результатами генотипирования методом ARDRA и наличием гена, кодирующего сиалидазу.
В исследовании Pleckaityte M. и соавт. [29] проанализировано 17 штаммов G. vaginalis с целью выявления взаимосвязи генотипов/биотипов и экспрессии факторов вирулентности – вагинолизина и сиалидазы, которые, как предполагается, играют важную роль в патогенезе БВ. Методом ARDRA выявлено два генотипа, один из которых имел более сложную структуру и делился на три подтипа. Корреляции между уровнем продукции вагинолизина и генотипами/биотипами не обнаружено, но выявлена связь между генотипами G. vaginalis и продукцией сиалидазы.
Использование полногеномного высокопроизводительного секвенирования (NGS) позволило подробнее исследовать молекулярно-генетические особенности G. vaginalis. Первые попытки анализа данных NGS предприняты в 2010 году. В исследовании Harwich M.D. и соавт. [36] проведено NGS двух штаммов G. vaginalis, выделенных у здоровой женщины и у пациентки с БВ. Сравнительный анализ геномов выявил существенные отличия, а исследования in vitro обнаружили достоверную разницу в потенциале вирулентности двух штаммов. Штамм-комменсал обладал меньшими вирулентными потенциями, чем патогенный.
В работе Yeoman C.J. и соавт. [37] в рамках проекта по изучению микробиома человека проведено секвенирование геномов двух штаммов G.vaginalis, выделенных от пациенток с клиническими симптомами БВ (594 и 317), и одного (409-05) – от пациентки с бессимптомным течением заболевания. В ходе филогенетического анализа установлено, что нуклеотидные последовательности гена 16S рРНК у штаммов 594 и 317 очень близки и отличаются всего на один нуклеотид. Последовательность гена 16S рРНК штамма 409-05, напротив, имела только 98% идентичности с последовательностями штаммов 594 и 317, что близко к значению, наблюдаемому у разных видов. Геном штамма 409-05 от пациентки с бессимптомным течением БВ был значительно короче и содержал на 63 гена меньше, чем геном штамма 317. Все штаммы располагали значительным потенциалом вирулентности, в том числе генами, кодирующими токсин вагинолизин, пили для цитоадгезии, генами, ответственными за образование биопленки и генами устойчивости к антимикробным препаратам. В то же время БВ-ассоциированные штаммы G.vaginalis содержали гены, кодирующие ряд белков, отсутствующих в штамме 409-05, что, скорее всего, повышает их патогенный потенциал. К таким генам относятся, например, гены ферментов, вызывающих деградацию муцина.
Ahmed A. и соавт. [38] подвергли сравнительному геномному анализу 17 клинических изолятов G. vaginalis для определения их родства. Размеры геномов варьировались в широких пределах – от 1,491 до 1,716 млн последовательностей нуклеотидов, GC-состав – от 41,18% до 43,40%. Универсальная часть генома состояла всего из 746 генов, составляя только 27% от полного генома. Выявлены четыре группы штаммов – «клады», отличающихся друг от друга размером и структурой геномов и GC-составом. Высказано предположение о том, что возможно, целесообразно рассматривать каждую из четырех групп, как отдельный вид.
В 2014 году Balashov S.V. и соавт. предложили новый, более быстрый и доступный подход к типированию гарднерелл с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени [39]. Авторы подобрали праймеры для ПЦР-детекции четырех «клад» G. vaginalis, выявленных в предыдущей работе [38]. Из-за простоты метода типирование по «кладам» стало широко использоваться в последующих работах. Кроме того, показано, что «клады» коррелируют с проявлениями БВ: штаммы, относящиеся к «кладам» 1 и 3, были ассоциированы с БВ, «клада» 2 ассоциирована с бессимптомным носительством, а «клада» 4 не показала корреляции с БВ.
В 2016 году Schellenberg J.J. и соавт., проведена масштабная работа по изучению 112 изолятов, выделенных у пациентов из стран трех разных континентов (Канада, Бельгия и Кения) [40]. Так же, как и в других работах, филогенетический анализ нуклеотидных последовательностей гена cpn60 позволил выделить четыре подгруппы G. vaginalis: A, B, C, D. Проведено сравнение подгрупп G. vaginalis с результатами других методов типирования. В частности, генотипирование методом ARDRA выявило два генотипа: I и II. Все изоляты, относящиеся к подгруппе А, принадлежали к генотипу I, а все изоляты из группы C – к генотипу II. Изоляты подгрупп B и D не коррелировали с генотипом по ARDRA. В подгруппах B, C и D все изоляты имели ген сиалидазы, в то время как все изоляты из группы A, кроме одного, не имели этого гена. Но наличие гена сиалидазы еще не означало, что этот ген находился в активном состоянии и сиалидаза продуцировалась. Был проведен анализ его активности, который показал, что, несмотря на наличие гена сиалидазы в группах C и D, в большинстве случаев ген был неактивен. Кроме того, проведено сравнение подгрупп с «кладами» из предыдущей работы и показано, что подгруппы A, B, C, D соответствуют «кладам» 4, 2, 1 и 3, соответственно.
В других работах подтверждается корреляция «клад» с особенностями клинического течения БВ, а также чувствительностью G.vaginalis к антимикробным препаратам. В 2017 году в работе Janulaitiene M. и соавт. проанализировано распределение изолятов G. vaginalis по «кладам» для трех групп пациенток: без БВ, с БВ и с частичным БВ [41]. В группе пациенток без БВ чаще всего встречались изоляты из «клада» 4 (79,4% образцов вагинального отделяемого), затем – «клада» 1 (63,7%), «клада» 2 (42,2%) и 3 (15,7%). В группе пациенток с верифицированным диагнозом БВ чаще встречались изоляты, относящиеся к «кладам» 1 и 2, а «клады» 3 и 4 не коррелировали с проявлением БВ, что отличается от результатов других работ [39].
В работе Schuyler J. A. и соавт. (2016г), показано, что чувствительность гарднерелл к метронидазолу коррелирует с «кладовой» принадлежностью штаммов [42]. В то же время в работе Hilbert D.W. и соавт., напротив, показано отсутствие корреляции кладовой принадлежности штаммов с клиническими проявлениями БВ [43]. Распределение всех четырех «клад» оказалось примерно одинаковым в клинических образцах, взятых у женщин без БВ и с БВ. Хотя было показано, что клады 1 и 4 встречаются чаще, чем клады 2 и 3 независимо от клинической картины.
Наличие того или иного гена еще не гарантирует, что с него будет экспрессироваться соответствующий продукт. В работе Castro J. и соавт. проведено секвенирование РНК и сравнительный транскриптомный анализ двух штаммов, один из которых способен образовывать биопленки, а другой – неспособен [44]. Обнаружены различия уровней экспрессии 815 генов. Оказалось неожиданным, что уровень транскрипции вагинолизина заметно ниже у штамма, способного образовывать биопленки.
Проведенные исследования показали, что G. vaginalis обладает большим потенциалом вирулентности [45]. К основным механизмам вирулентности относятся: транслокация эффекторных белков, адгезия к вагинальному эпителию, образование биопленок, цитотоксичность/гемолиз, утилизация железа и уклонение от иммунного ответа хозяина [37]. Кроме того, у G. vaginalis имеются факторы, обуславливающие устойчивость к антимикробным препаратам.
Гемолитическая активность у G. vaginalis впервые была описана в 1955 году [11]. Показано, что она ассоциирована с белком, литическое действие которого специфично по отношению к эритроцитам, нейтрофилам и клеткам эндотелия человека [15]. Белок с молекулярной массой 59 кДа впервые выделен и описан Cauci S. и соавт. [46]. В 2008 году установлено, что гемолизин G. vaginalis, названный вагинолизином, относится к семейству холестеролзависимых цитолизинов и является селективным для клеток человека [47, 48]. Иммуноглобулин-опосредованный ответ на гемолизин при БВ может быть использован в качестве маркера заболевания [46]. Видоспецифичный лизис клеток-мишеней зависит от CD59. Цитолитическое действие может сопровождаться увеличением проницаемости вагинального эпителия для вирионов ВИЧ. Выявлен ген, ответственный за продукцию вагинолизина (vly). Показано, что уровень экспрессии вагинолизина связан с уровнем токсичности на модели культуры клеток [29, 49], но не установлено взаимосвязи между уровнем экспрессии вагинолизина и генотипами/ биотипами G. vaginalis [29]. Patterson J.L. и соавт. [3] проанализировали относительные цитотоксические уровни активности у БВ-ассоциированных анаэробов и G. vaginalis и обнаружили, что только G.vaginalis способна вызывать лизис эпителиальных клеток. Предполагается, что вагинолизин G. vaginalis играет важную роль в патогенезе БВ. В работе Knupp de Souza D.M. и соавт. показано, что из 204 изолятов ген vly присутствовал у всех изолятов G. vaginalis, выделенных у женщин с бессимптомным носительством (n=25), и у 98,3% изолятов, выделенных у женщин с БВ (n=179) [50]. Не выявлена корреляция наличия гена vly с клиническими проявлениями БВ. В работе Castro J. и соавт. [44] при сравнительном транскриптомном анализе, напротив, показано, что уровень транскрипции вагинолизина был заметно ниже у штамма, способного образовывать биопленки, чем у комменсального штамма.
У G.vaginalis обнаружен ряд генов, вовлеченных в процесс транслокации эффекторных белков [37]. Это гены, кодирующие следующие белки: белок G5 с гликозилазным доменом, белок системы секреции типа II/IV и транслоказу системы секреции типа II. Механизмы функционирования этих белков требуют дальнейшего изучения.
Другим механизмом вирулентности G. vaginalis является способность к адгезии. Склонность G. vaginalis к адгезии на вагинальных эпителиальных клетках впервые показана Patterson J.L и соавт. [3]. Эпителиальная адгезия обычно осуществляется с помощью пилей. У G. vaginalis описаны гены, кодирующие пили I и II типа. Установлено, что адгезия к клеткам урогенитального эпителия опосредует колонизацию G. vaginalis, минимизируя контакт бактерий с потенциально разрушительными внеклеточными ферментами и локальными антителами. Кроме того, адгезия является первым шагом в формировании биопленки. Для исследования адгезии in vitro используют клетки вагинального эпителия. Patterson J.L. и соавт. [3] проанализировали способность БВ-ассоциированных строгих анаэробов (Prevotella bivia, Mobiluncus mulieris, Veillonella sp., Peptostreptococcus sр., Peptoniphilus sр.) и G. vaginalis адгезироваться на вагинальных эпителиальных клетках ME-180 в культуре ткани. Только G. vaginalis и Peptoniphilus sр. отличались выраженными адгезивными свойствами. G. vaginalis имела тенденцию формировать скопления бактерий на всей эпителиальной клетке, в то время как Peptoniphilus sр. равномерно распределялся вдоль границ эпителиальных клеток. У прочих строгих анаэробов адгезивные свойства проявлялись в значительно меньшей степени. Аналогичные данные получены в более раннем исследовании Scott T.G. и соавт. [51]. Благодаря использованию электронной микроскопии показано, что G. vaginalis подвергает адгезии McCoy клетки и эритроциты человека.
G. vaginalis способна к формированию биопленок. Swidsinski A. и соавт. [14] в 2005 году показали, что G. vaginalis формирует адгезивную биопленку на эпителии влагалища у женщин с БВ. При наличии биопленок бактерии выживают при концентрациях перекиси водорода и молочной кислоты в 4–8 раз более высоких, чем выдерживают отдельные бактерии вне пленок [3]. В ряде исследований [3, 52, 53], проведено сравнение способности формировать биопленку штаммами G. vaginalis и другими микроорганизмами, aссоциированными с БВ. Показано, что в течение одинакового времени при сокультивировании с вагинальными эпителиальными клетками штаммы G. vaginalis образовывали толстую плотную биопленку, в то время как штамм Fusobacterium nucleatum проявил способность создавать средней толщины биопленку, частично разрушаемую при промывании водой. Другие анаэробы (P. bivia, M.mulieris, Veillonella sp., Peptostreptococcus sр., Peptoniphilus sр.) продемонстрировали значительно меньшую способность к пленкообразованию. Для биопленок описан феномен кворумной сигнализации – сетевой коммуникации бактерий, координирующих экспрессию генов, в зависимости от условий среды. Синтез молекул кворумной сигнализации осуществляет белок LuxS. Ключевым фактором развития БВ и его рецидивирования является рН влагалища. Обнаружено, что оптимум рН для продукции фермента LuxS G.vaginalis находится в слабощелочной области. При рН более 4,5 активируется выработка молекул кворум-сенсинга и происходит образование биопленок. Кислая среда способствует разрушению бактериальных пленок, что помогает эффективно устранять симптомы БВ и снижать риск рецидивов. Ответственным за формирование биопленки считается экзополисахарид, в биосинтезе которого участвуют гликозилтрансферазы (GTS) II, I и IV типов. Число и состав GTS у штаммов G.vaginalis варьируется [37]. В процесс пленкообразования вовлечены дополнительные факторы, усиливающие функцию GTS. У грамположительных бактерий это белки, фиксированные на поверхности клетки с помощью фермента сортазы. Число и структурные особенности белков варьируются, влияя на вирулентный потенциал бактерий. В то же время в работе Castro J. и соавт. на модели культуры клеток не выявлено различий в уровнях формирования биопленки у штаммов, приводящих к развитию БВ, и у штаммов, ассоциированных с бессимптомным носительством [49].
Важный фактор вирулентности G. vaginalis – сиалидаза расщепляет терминальные остатки сиаловой кислоты сиалогликанов вагинального отделяемого и играет важную роль в обеспечении бактерий питательными веществами путем катаболизма сиаловой кислоты, а также в обнаружении сайтов прикрепления бактерий к эпителию при адгезии, способствуя формированию биопленок и модулированию иммунного ответа. Помимо муцина, мишенями для сиалидазы являются IgA, рецепторы хемокинов и иммуноглобулинов, расположенные на клеточной поверхности, и toll-подобные рецепторы. Выявлен ген, кодирующий сиалидазу [54, 55]. Вопрос о взаимосвязи между продукцией сиалидазы и БВ до сих пор остается дискуссионным: имеются работы, в которых такая взаимосвязь обнаружена [31] и исследования, в которых корреляция между продукцией сиалидазы и БВ не выявлена [49]. Представляет особый интерес работа Hardy L. и соавт., в которой на большом количестве образцов вагинального отделяемого, содержащих G. vaginalis (n=393), с помощью метода ПЦР проводилась детекция гена сиалидазы [56]. Ген, кодирующий сиалидазу, обнаружен в 75% образцов. Выявлена статистически достоверная взаимосвязь между способностью гарднерелл образовывать биопленки, диагнозом БВ и наличием гена сиалидазы.
Еще один фактор вирулентности – пролидаза – экспрессируется многими бактериями, ассоциированными с БВ, в том числе и G. vaginalis [57]. Этот протеолитический фермент способен расщеплять компоненты внеклеточного матрикса, в том числе и муцин. Активность пролидазы напрямую связана с развитием БВ.
Как и другие микроорганизмы, G. vaginalis способна утилизировать железо из окружающей среды для обеспечения синтеза, главным образом, железосеропротеидов и цитохромов. В условиях дефицита железа микроорганизмы продуцируют сидерофоры – специальные пептиды, предназначенные для связывания ионов железа из окружающей среды. В исследовании Jarosik G.P. и соавт. показано, что штаммы G. vaginalis продуцируют сидерофоры [58]. В вагинальной жидкости обнаружены лактоферрин и трансферрин, которые относятся к группе сидерофилинов. У G. vaginalis обнаружен ряд генов, участвующих в утилизации железа и кодирующих следующие продукты: ферритин, ферропермеазу из семейства FTR-1, лактоферринсвязывающий белок из TPD-семейства, две различные по структуре кислороднезависимые копропорфириноген-III-оксидазы, регулятор транскрипции FUR-семейства и белок из семейства изохоризматаз. Известно, что при сидеропенических состояниях нарушается метаболизм эпителиальных клеток, что приводит к атрофии слизистых оболочек и, возможно, является одной из причин нарушения функции и повышенной десквамации эпителия при БВ.
Важным свойством G. vaginalis является способность вырабатывать белки, обуславливающие устойчивость бактерий к антимикробным препаратам. При анализе данных полногеномного секвенирования у G.vaginalis выявлены гены, обуславливающие устойчивость к блеомицину, метициллину и аминогликозидам [37]. Причем наличие соответствующих генов было штаммоспецифичным. В работе Schuyler J.A. и соавт. показано, что чувствительность G. vaginalis к метронидазолу коррелирует с «кладовой» принадлежностью штаммов [42]. Все изоляты, относящиеся к кладам 3 и 4, были устойчивы к метронидазолу, в кладе 1 устойчивость проявлялась у 35% изолятов (16 из 37), а в кладе 2 – только у 7% (1 из 14).
Кроме того, в литературе имеются сведения о том, что при воздействии антибиотика на биопленку число резистентных микроорганизмов может быть изначально незначительным. Но при повторном применении препаратов той же группы, благодаря кворум-сигнализации и экспрессии генов число резистентных бактерий быстро увеличивается, что в результате приводит к быстрому заселению биопленки резистентными формами второго и третьего поколений, неэффективности терапии и рецидиву заболевания. Так, Beigi R. и соавт. [59] проанализировали чувствительность 1059 изолятов анаэробных бактерий и установили, что исходно только 1% бактерий был резистентен к метронидазолу и 17% – к клиндамицину, а 53% бактерий стали резистентными уже после проведенной терапии клиндамицином.
Заключение
Таким образом, проведенный нами анализ литературы показал, что хотя БВ известен с давних времен, пока не удается кардинально продвинуться в понимании механизмов симптомного и асимптомного течения заболевания и его рецидивирования. Однако существенные подвижки в развитии молекулярной биологии вселяют надежду на возможность обнаружения молекулярно-генетических маркеров, позволяющих прогнозировать эффективность этиотропной терапии этого заболевания и возможность его рецидивов.