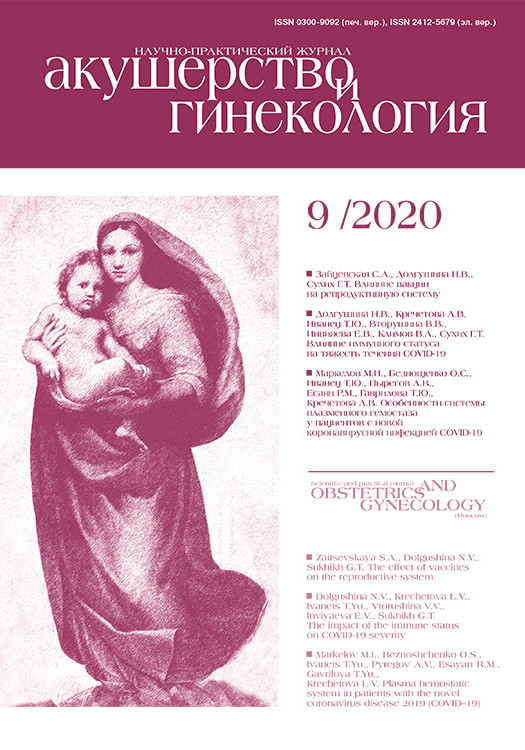Врожденная аплазия влагалища и матки наиболее часто встречается при синдроме Мейера–Рокитанского–Кюстера–Хаузера (аплазии Мюллера) и синдроме тестикулярной феминизации (синдроме андрогенной нечувствительности) [1–4]. Также аплазия влагалища и матки может встречаться при комбинированных пороках развития мочевыделительной системы и гастроинтестинального тракта (пороки развития клоаки и аноректальные аномалии) [5], при синдромных пороках развития, например, окулоаурикуловертебральном синдроме, Al-Awadi/Raas-Rothschild-синдроме, аномалии Klippel-Feil и других [6, 7].
Женщины с синдромом Мейера–Рокитанского–Кюстера–Хаузера имеют женский кариотип и нормально функционирующие яичники, обеспечивающие правильно развитые фенотипичеcкие признаки, но полностью отсутствует матка и верхние 2/3 влагалища или имеются маточные рудименты. Данный вид встречается с частотой 1 случай на 5000–10 000 новорожденных девочек. Этиология развития синдрома Мейера–Рокитанского–Кюстера–Хаузера до настоящего времени неизвестна и большинством авторов рассматривается в рамках эмбриональных нарушений [8, 9].
В дальнейшем, в зависимости от возраста обращения пациентки к врачу, жалоб и формы порока гениталий, а также с учетом психосоматического статуса и желания пациентки проводится консервативное лечение (кольпоэлонгация) или хирургическая коррекция порока развития [10, 11]. Растущая доступность трансплантации матки в качестве лечения бесплодия у пациенток с аплазией матки и влагалища или экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в программе суррогатного материнства позволит большему количеству пациентов достичь биологического материнства в будущем, требующего проведения пренатальной диагностики, включая предимплантационное генетическое тестирование [1, 12].
В связи с тем, что при синдроме Мейера–Рокитанского–Кюстера–Хаузера возможно развитие двух типовых вариантов (1 тип – с полной аплазией влагалища и матки (64%) и 2 тип – атипичный – с наличием функционирующих рудиментов матки (24%) и патологии маточных труб, яичников в сочетании с множественными пороками развития других органов и систем), оценка фенотипического комплекса данных больных представляет научный и клинический интерес [13]. Частота пороков развития мочевой и сердечно-сосудистой системы в рамках так называемого MURCS может достигать 12% [14]. K.Rall и соавторы (2015) в рамках синдрома Мейера–Рокитанского–Кюстера–Хаузера описали и иные нарушения развития мезодермальных тканей [13]. Поэтому вопрос повышенной стигматизации у пациенток с пороками гениталий представляет определенный научный интерес.
В последнее время стигмам дисэмбриогенеза и их роли в постановки диагноза синдрома дисплазии соединительной ткани уделяется все больше внимания. Однако мнения исследователей в определении диспластических фенотипов и рамок порога стигматизации расходятся [15–17]. Учитывая, что пациентки с синдромом Мейера–Рокитанского–Кюстера–Хаузера имеют более высокий порог стигматизации по сравнению с пациентками без порока гениталий, оценка корреляции между высоким порогом стигматизации и наличием синдрома дисплазии соединительной ткани у женщин представляет клинический и научный интерес.
С учетом всего вышесказанного, на основании ретроспективного и проспективного анализа мы описали клинический симптомокомплекс пациенток репродуктивного возраста с аплазией влагалища и матки и на основании полученных результатов изучили корреляции высокого порога стигматизации с фенотипическими признаками синдрома ДСТ.
Материалы и методы
В исследование были включены 406 пациенток с аплазией влагалища и матки, поступивших в отделение оперативной гинекологии ФГБУ «НИМЦ АГиП им. академика В.И. Кулакова» МЗ РФ для хирургической коррекции порока гениталий в период 1995–2016 гг. Группу сравнения составили 47 пациенток без пороков развития гениталий, которым проводилось хирургическое лечение по поводу другой гинекологической патологии.
Пациентки с аплазией матки и влагалища были распределены на 2 группы. В 1-ю подгруппу включено 364 больных с аплазией влагалища и матки с кариотипом 46ХХ, во 2 подгруппу – 42 пациентки с аплазией матки и влагалища, но с функционирующими маточными рудиментами (кариотип 46ХХ). Группу сравнения составили 47 пациенток без пороков развития половых органов, поступивших в отделение оперативной гинекологии для хирургического лечения другой гинекологической патологии. Средний возраст пациенток основной группы составил 25 (7,6) лет, группы сравнения – 31,6 (9) года.
Весо-ростовые параметры не отличались от популяционной нормы. Рост пациенток 1-й и 2-й подгрупп был 167,3 (6,7) см и 164 (6,3) см соответственно, а группы сравнения – 166 (6) см. Медиана веса пациенток в группах составила: в 1-й группе – 56 кг, во 2-й группе – 58 кг и в группе сравнения – 58 кг.
Различий в группах по отягощенной наследственности нами выявлено не было. В основной группе отягощенная наследственность выявлена у 109 (26,8%) больных, в группе сравнения – у 15 (31,9%). Онкологические заболевания у родственников в основной группе с аплазией влагалища и матки установлены у 46 (11,3%) пациенток, в группе сравнения – у родственников 4 (8,6%) пациенток. Эндокринопатии у родственников в основной группе у пациенток с аплазией влагалища и матки не превышали 2% (8 пациенток), в группе сравнения составили 8,6% (4 пациентки).
Аллергоанамнез в основной группе был отягощен у 82 (20,1%) женщин, в то время как в группе сравнения этот показатель не превышал 5 (10,6%). При анализе по группам было выявлено, что наибольшее число жалоб на склонность к аллергическим реакциям было выявлено во 2-й подгруппе (аплазия матки и влагалища с функционирующими маточными рудиментами) – у 12 (28,5%), в то время как в 1-й подгруппе – у 70 (19,2%) пациенток.
Все пациентки предъявляли жалобы на отсутствие менструаций и невозможность жить половой жизнью. Жалобы на циклические боли внизу живота предъявляли преимущественно пациентки 2-й подгруппы – 23 (54,7%) (с функционирующими маточными рудиментами). В 1-й подгруппе подобные жалобы предъявляли лишь 40 (10,9%) больных, что могло свидетельствовать как о рецепторной чувствительности тканей маточных рудиментов, разном пороге болевой чувствительности, степени развития рудиментов, так и, по-видимому, меняющемся с возрастом гормональном фоне у некоторых пациенток.
При бимануальном осмотре у пациенток 1-й подгруппы лишь у 11 (3%) пациенток было выявлено сформированное влагалище (естественный кольпопоэз), в то время как во 2-й подгруппе (с функционирующими маточными рудиментами) этот показатель достиг 21,4% (9 больных), что могло указывать на адекватную эстрогенизацию таких пациенток, обеспечивающую эластичность тканей, и правильную мотивационную составляющую.
Для уточнения диагноза и характера сопутствующей патологии у пациенток с аплазией влагалища и матки использовались анамнестические, физикальные, генетические (кариотипирование) методы обследования, УЗИ малого таза и почек, магнитно-резонансная томография (для исключения комплексных или синдромальных пороков развития), экскреторная урография (для уточнения состояния мочевыделительной системы и функциональной активности почек). Осмотр, кариотипирование и УЗИ для установления диагноза аплазии влагалища и матки проведены у 346 женщин (85,2%).
Как правило, пациентки поступали в Центр с уже установленным диагнозом для проведения хирургической коррекции, поэтому не нуждались в специальных методах исследования. По необходимости в Центре в редких случаях проводили дифференциальную диагностику основного заболевания, которое явилось причиной аплазии влагалища и матки. Например, лишь у 20 (4,9%) больных с аплазией влагалища и матки диагноз был установлен путем комбинации УЗИ и МРТ и у 21 (5,2%) – только МРТ. У 45 (11%) больных с аплазией влагалища и матки диагноз был установлен во время предшествующей операции, в том числе у 10% – во время диагностической лапароскопии.
Весь операционный материал, удаленный при оперативном лечении, был исследован гистологически. Для выяснения особенностей структуры соединительной ткани при аплазии влагалища и матки и наличии функционирующих маточных рудиментов нами проведено иммуногистохимическое исследование миометрия, желез и стромы эндометрия маточных рудиментов у 8 пациенток в сравнении с 3 образцами миометрия и эндометрия маток, удаленных в связи с сопутствующей гинекологической патологией.
Для иммуногистохимического исследования 11 образцов тканей срезы толщиной 4 мкм наносили на высокоадгезивные стекла и сушили при температуре 37°С в течение 18 часов. После снятия парафина со срезов их регидратировали в батарее спиртов 95, 80 70, инкубируя в каждом растворе по 2 минуты. Восстановление антигенной активности проводили в PT Link (Dako) при температуре 97°С в течение 20 минут в 10 мМ цитратном буфере рН 6,0. Остывшие стекла помещали во влажные камеры (для предотвращения высыхания срезов) и инкубировали 15 минут в 3% растворе перекиси водорода для блокирования эндогенной пероксидазы. Реакцию с первичными антителами проводили в течение 30 минут при комнатной температуре. В исследовании использовались моноклональные антитела: мышиные к MMP2 [clone 6E3F8], 1:200 (ab86607, Abcam, UK) и кроличьи к MMP9 [clone EP1254], 1:200 (ab76003, Abcam, UK), а также кроличьи поликлональные антитела к TIMP-1, 1:50 (NeoMarkers,USA), Fibronectin, 1:50 ( Dako, Denmark), Laminin alpha-1, 1:50 (Santa Cruz Biotechnology, USA), Collagen I alpha-1,1:500 (GeneTex,USA) и Collagen III alpha-1,1:1000 (GeneTex, USA).
В качестве вторичных антител использовали систему Dako REAL EnVision (Dako, Denmark). Для визуализации мест связывания антител с антигенами использовали реакцию окисления субстрата 3,3-диаминобензидина (ДАБ) пероксидазой хрена в присутствии перекиси водорода с образованием водонерастворимого конечного продукта коричневого цвета. Для правильной постановки иммуногистохимических реакций ставили положительные и отрицательные контроли. В качестве отрицательных контролей брали образцы исследуемых срезов, которые подвергались стандартной процедуре иммуногистохимической реакции, но без добавления первичных антител. Положительные контроли для каждого антитела выбирали в соответствии со спецификациями от фирмы производителя. После проведения иммуногистохимических реакций срезы контрастировали гематоксилином и заключали в синтетическую среду Shandon mount TM (USA). Таким образом, особенности соединительнотканных структур были оценены по состоянию экстрацеллюлярного матрикса и клеточных элементов. Иммуногистохимическую зрелость соединительной ткани оценивали по соотношению различных типов коллагена, фибронектина, ламинина, а также балансу между деградирующими ферментами и их ингибиторами (матриксными протеиназами ММР2 и ММР9 и их ингибитором TIMP1). Результаты иммуногистохимических реакций оценивали полуколичественным методом в баллах по общепризнанной методике.
Результаты
Анализ сопутствующей патологии у 406 пациенток основной группы с аплазией влагалища и матки показал, что такому пороку развития часто сопутствуют пороки развития почек и мочевыделительной системы, которые достигали 163 (40,1%) случаев.
Так, аплазия одной почки была выявлена у 46 (11,3%) пациенток, удвоение чашечно-лоханочной системы с одной стороны – у 17 (4,2%) больных, нефроптоз или тазовая дистопия одной или обеих почек была выявлена у 58 (14,2%) женщин, аномалия развития мочеточника, экстрофия мочевого пузыря – у 2 (0,4%) пациенток. Такие особенности строения почек как блуждающая почка, гидронефротическая трансформация почки, гипоплазия одной почки, нефункционирующая почка, киста почки, ротированная почка встречались у 13 (3,2%) пациенток с аплазией влагалища и матки и не встречались в группе контроля. Таким образом, пороки и особенности развития мочевыделительной системы распределились следующим образом: в 1-й подгруппе их частота составила 135 (37,1%), во 2-й подгруппе – 24 (57,1%). В группе контроля данные закономерности выявлены не были.
Заболевания мочевыделительной системы (пиелонефрит, мочекаменная болезнь, гломерулонефрит, цистит) были выявлены у 77 (18,9%) пациенток в основной группе, в то время как в группе сравнения – лишь у 4 (8,5%) больных, что являлось закономерным вследствие нарушения уродинамики.
При анализе заболеваемости в основной группе было выявлено, что наибольшая частота заболеваний мочевыделительной системы была во 2-й подгруппе – у 19 (45,2%) женщин, в то время как в 1-й не превысила 53 (14,6%) пациенток.
Патология опорно-двигательной системы была выявлена у 65 (17,9%) больных с аплазией влагалища и матки: 58 (15,9%) и 7 (16,7%) в 1-й и 2-й подгруппах соответственно. В группе сравнения частота заболеваний опорно-двигательной системы не превысила 3 (6,4%).
Такие пороки развития, как аномалия развития шейного отдела позвоночника (синдром Кеммерле), врожденная кривошея, дисплазия шейного отдела позвоночника, сращение позвонков шейного отдела позвоночника и отсутствие межпозвоночных дисков (болезнь Ширен–Геля) встречались у 6 (1,5%) пациенток основной группы с аплазией влагалища и матки и не выявлены в группе контроля. Такие врожденные патологии, как синдром Клиппеля–Фейла (врожденный порок развития шейных и верхнегрудных позвонков), болезнь Шейермана–Мау (прогрессирующее кифотическое искривление позвоночника), были выявлены у 13 (3,2%) пациенток основной группы с аплазией влагалища и матки.
Также у 4 (0,9%) пациенток были выявлены врожденные пороки развития рук или ног (двусторонняя лучевая косорукость, анкилоз локтевого сустава, лучевая косорукость, укорочение обоих предплечий, нарушение чувствительностей кистей и т.д.).
Сколиоз и гипермобильность суставов не превысили 19 (4,7%) и 11 (2,7%) случаев в основной группе соответственно. Ревматоидный артрит и остеохондроз поясничного отдела позвоночника у пациенток в группе с аплазией влагалища и матки не превысили 4 (0,9%) и 9 (2,2%) соответственно. В группе сравнения – 3 (6,4%).
Ведущими заболеваниями патологии ЖКТ у пациенток основной группы были: хронический гастрит и гастродуоденит – 36 (8,9%) случаев, холецистит и дискинезия желчевыводящих путей – 31 (7,6%), киста печени и перегиб желчного пузыря – 7 (1,7%). Диффузные изменения поджелудочной железы, спленомегалия, кальцинаты селезенки, гастроэзофагорефлюксная болезнь, доброкачественная гипербилирубинемия не превысили 2,2% (9 женщин), язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки отмечены у 3 (0,7%) пациенток, хронический колит – у 3 (0,7%) пациенток.
При анализе по группам патология органов ЖКТ преобладала во 2-й подгруппе (у пациенток с функционирующими маточными рудиментами) – 9 (21,4%), в то время как в 1-й подгруппе – 61 (16,7%). Данную закономерность мы объяснили длительным приемом фармацевтических препаратов при лечении болевого симптома при функционирующих рудиментах, а также возможной дизрегуляционной патологией.
Патология глаз была выявлена у 36 (8,8%) пациенток основной группы и у 3 (6,4%) – в группе сравнения. В основной группе патология глаз была представлена: миопией – у 26 (6,4%) пациенток, астигматизмом – у 2(0,5%) пациенток, косоглазием – у 1-й, гиперметропией – у 4 (1%). Максимум частоты патологии глаз был выявлен во 2-й группе – у 10 (23,8%) больных, в 1-й группе – у 26 (7,1%).
Пороки развития сердца, такие как дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородки, порок митрального клапана выявлен у 41 (10,1%) пациенток основной группы (группа сравнения 8,6%): в 1-й подгруппе – у 34 (9,3%) больных и во 2-й подгруппе – у 7 (16,7%) пациенток.
Пролапс митрального клапана выявлен у 30 (7,4%) пациенток группы с аплазией влагалища и матки: в 1-й подгруппе – у 27 (7,4%), во 2-й группе – у 3 (7,1%). В группе сравнения частота патологии составила 8,5% ( у 4 пациенток).
Варикозная болезнь вен ног обнаружена у 13 (3,2%) пациенток с аплазией влагалища и матки, нейроциркуляторная дистония – у 36 (8,9%). В группе контроля соответственно у 1 (2,1%) и 3 (6,4%) пациенток.
Оперативное лечение по поводу паховой или пупочной грыжи в анамнезе проводилось у 21 (5,2%) женщин основной группы: 18 (4,9%) и 3 (7,1%) пациенток в 1-й и 2-й подгруппах соответственно. В группе контроля не выявлено.
Общие операции, такие как аппендэктомия, редко – холецистэктомия, сфинктеропластика, уретеросигмоанастомоз, в анамнезе были выполнены 97 (23,9%) больным основной группы: 84 (23,1%) и 13 (30,9%) пациенткам в 1-й и 2-й подгруппах соответственно. В группе контроля частота оперативных вмешательств в связи с данной патологией не превысила 9 (19,1%) пациенток.
У 56 (13,8%) женщин основной группы выявлена сопутствующая гинекологическая патология: в 1-й подгруппе – 14,2%, во 2-й подгруппе – 32,4%. Миома рудиментов матки была выявлена у 23 (5,7%) больных, наружный генитальный эндометриоз – у 10 (2,5%) и аденомиоз рудиментов – у 7(16,2%) пациенток (результаты подтверждены гистологически).
Из 406 пациенток основной группы хирургическое лечение основного заболевания было выполнено 361 (88,9%) пациентке. 9 больным проведен курс кольпоэлонгации с учетом подвижности и растяжимости тканей в этой зоне и при наличии нижней трети влагалища.
У 339 (83,4%) использовался лапароскопический доступ и 9 (2,2%) пациенткам выполнялась диагностическая лапароскопия. Промежностным доступом выполнено 18 (4,4%) хирургических вмешательств, в том числе в комбинации с лапароскопией, среди которых повторные операции по поводу стриктуры неовлагалища – у 5 пациенток, удаление полипов неовлагалища, созданного из сигмовидной кишки, – у 2 с последующим удалением неовлагалища в связи с развитием злокачественных изменений. Операции по удалению маточных рудиментов при наличии естественного кольпопоэза или выполнении корректирующей операции ранее были произведены у 34 (9,4%) женщин.
Основным видом оперативного лечения в 72,3% случаях (263 пациентки) был кольпопоэз из тазовой брюшины с использованием преимущественно минимально инвазивной техники выполнения операции. Кольпопоэз выполнялся по двум патентованным методикам, разработанным в нашем Центре (1-й патент на изобретение №2585739 от 25 мая 2015 г. «Новый способ операции брюшинного кольпопоэза, выполняемого для хирургической коррекции порока развития внутренних половых органов – аплазии влагалища и матки» и 2-й патент на изобретение № 2587723 от 3 июля 2015 г. «Усовершенствованная методика операции кольпопоэза из тазовой брюшины с лапароскопической ассистенцией»).
Интраоперационными находками у пациенток 1-й и 2-й подгрупп были: гипоплазия или аплазия маточных труб у 32 (7,9%) женщин, врожденное отсутствие придатков с одной стороны обнаружено у 2 пациенток. Вытянутая форма яичника с подозрением на овотестис обнаружена у 3 пациенток.
В повторной операции нуждались 37 (10,2%) женщин 1-й подгруппы: в связи с наличием стриктуры неовлагалища – 7 (18,9%) пациенток, укорочения ранее созданного неовлагалища в связи с отсутствием половой жизни и несоблюдением послеоперационных рекомендаций по уходу за неовлагалищем – 9 (24,3%), в связи с попыткой проведения кольпопоэза и ранением прямой кишки по месту жительства – 4 (10,8%), в связи с рецидивирующими полипами неовлагалища после сигмовагинопоэза – 2, неэффективностью кольпоэлонгации консервативным путем – 15 (40,5%) женщин.
Все удаленные рудименты (2-я подгруппа – 42 пациентки) были исследованы морфологически. Очаговый эндометрий с функциональной активностью был обнаружен у 40,5% (17 образцов) больных: в 12 образцах был обнаружен эндометрий в фазе пролиферации, а в 5 – эндометрий фазы секреции. Очаговый эндометрий без признаков функциональной активности был обнаружен в 9 (21,4%) образцах. В других образцах эндометрий обнаружен не был.
Также была выявлена следующая патология рудиментов матки: внутренний эндометриоз был выявлен в 16,7% случаев (7 пациенток), у 5 (11,9%) пациенток – описан тонкий эндометрий с воспалительными изменениями.
Для контроля проводили исследование миометрия и эндометрия матки, удаленной при лапароскопической операции в связи с сопутствующей патологией. Результаты гистологического исследования подтверждали наличие функциональной активности эндометрия с определением фазы функциональной активности, преимущественно пролиферации (в 62,5% случаев).
По результатам иммуногистохимического исследования фибронектин не был обнаружен ни в железах, ни в строме эндометрия, ни в миометрии как у пациенток с рудиментами матки, так и в группе сравнения.
ММР2, или желатиназа А, была одинаково выявлена в цитоплазме клеток желез эндометрия у всех пациенток как в основной группе, так и группе контроля – 62,5% и 66,7% соответственно. Однако в основной группе с аплазией матки и влагалища экспрессия ММР2 была более выражена, чем в группе сравнения.
Распределение ММР2 в цитоплазматической, апикальной и мембранной локализациях желез эндометрия установлено у 50% пациенток с функционирующими маточными рудиментами и не установлено в группе сравнения. Только цитоплазматическое расположение ММР2 выявлено у второй половины пациенток с функционирующими маточными рудиментами и у 2 – в группе сравнения. В строме эндометрия экспрессия ММР2 была обнаружена только у 1 пациентки с маточными рудиментами в 5% клеток с ядерным расположением.
В миометрии ММР2 встречалось у 2 пациенток основной группы, преимущественно с цитоплазматическим расположением в 20% и 5% клеток со слабой и выраженной экспрессией и лишь у 1 пациентки группы сравнения также с цитоплазматическим расположением и умеренной экспрессией.
Таким образом, расположение ММР2 в цитоплазме, апикальном отделе и мембране было более характерно для желез эндометрия маточных рудиментов.
Желатиназа ММР9 была выявлена в железах эндометрия рудиментов лишь в 37,5% случаев, причем в одном случае в 60% клеток с мембранным расположением и в 5% клеток с цитоплазматическим расположением.
В строме ММР9 обнаружена у 75% пациенток с функционирующими маточными рудиментами, причем из них у 50% – с мембранным расположением и выраженной экспрессивностью и у 50% – с ядерным расположением и выраженной экспрессивностью, в то время как в группе сравнения у всех пациенток обнаружено ядерное расположение ММР9 в 3% и 5% клеток с выраженной экспрессивностью, мембранный тип расположения не выявлен.
В миометрии ММР9 обнаружены у 62,5% пациенток группы с пороком матки, из них в 90% случаев – с ядерным расположением и выраженной экспрессией. В группе сравнения ММР9 не выявлялась.
Таким образом, у пациенток основной группы ММР2 и ММР9 обнаруживаются значительно чаще и с большей экспрессивностью. чем в группе сравнения.
TIMP1 (тканевой ингибитор металлопротеиназы 1) не был обнаружен в образцах обеих групп женщин ни в одном компоненте.
Коллаген I типа обнаружен в строме эндометрия маточных рудиментов в 100% клеток с мембранным расположением, равно как и в группе контроля (100%). В миометрии коллаген I типа также встречался у всех пациенток обеих групп, однако в основной группе его содержание в клетках варьировало от 60% до 90%.
Коллаген III типа в железах эндометрия не обнаружен как у пациенток основной группы, так и группы контроля. В строме эндометрия он был обнаружен у всех пациенток обеих групп с мембранным расположением и выраженной экспрессивностью. В миометрии коллаген III типа обнаружен у всех пациенток обеих групп с выраженной экспрессией и мембранным расположением.
Патологическая экспрессия адгезивного гликопротеина ламинина в нашем исследовании не выявлена ни в основной группе, ни в группе сравнения.
Обсуждение
При анализе фенотипических особенностей 406 пациенток с аплазией матки и влагалища отмечено, что рост пациенток не отличался в 1-й и 2-й подгруппах соответственно (167,3 (6,7) см и 164 (6,3) см) и в группе сравнения (166 (6) см). Рост пациенток 2-й подгруппы группы с аплазией влагалища и матки и функционирующими рудиментами был ближе к показателям роста нормально менструирующих женщин группы сравнения, что может указывать на формирование порока гениталий на более поздней стадии эмбриогенеза, а следовательно, более полноценный рецептивный аппарат.
Наследственный фон у пациенток в основной группе был спокоен и не отличался от группы сравнения. Аллергоанамнез в основной группе был отягощен более чем в 2 раза (20,1%) по сравнению с 10,6% в группе сравнения, что могло указывать на дисрегуляционную патологию, обусловленную дисгормональными изменениями у пациенток основной группы. Это предположение подтверждает факт увеличения более чем в 1,5 раза (28,5%) частоты аллергических реакций у пациенток с частично функционирующими маточными рудиментами по сравнению с пациентками 1-й подгруппы группы с аплазией влагалища и матки (19,2%).
На более адекватный гормональный фон у пациенток 2-й подгруппы по сравнению с 1-й подгруппой указывал и факт наличия циклических менструальных болей внизу живота у 23 (54,7%) пациенток по сравнению с 40 (10,9%) больными 1-й подгруппы, а также частота естественного кольпопоэза (до 21,4%) по сравнению с 3% в 1-й подгруппе. Указанные закономерности свидетельствуют о рецепторной чувствительности тканей маточных рудиментов и их степени развития, на адекватную эстрогенизацию таких пациенток, обеспечивающую эластичность тканей, и правильную мотивационную составляющую. Наше предположение подтверждено наличием функционирующих маточных рудиментов у пациенток 2-й подгруппы группы с аплазией влагалища и матки.
На нарушение эмбриогенеза указывала и высокая частота пороков развития органов мочевыделительной системы – 123 (30,3%). Высокая частота заболеваний органов мочевыделительной системы явилось следствием нарушения уродинамики и носила функциональный характер – 53 (14,6%) и 19 (45,2%) больных в 1-й и 2-й подгруппах соответственно.
На дисэмбриогенез указывала частота пороков развития костно-мышечной системы (до 5%) в основной группе, что не встречалось в группе контроля. Учитывая, что частота сколиоза и гипермобильности суставов не превысили 19 (4,7%) и 11 (2,7%) случаев в основной группе соответственно, что не отличало показатели от группы сравнения (3 и 4%), то говорить о дисплазии соединительной ткани у пациенток с аплазией влагалища и матки преждевременно.
Известно, что костные признаки эмбриогенеза коррелируют с малыми аномалиями сердца [18]. В данном исследовании малых аномалий сердца у пациенток с аплазией влагалища и матки не выявлено, а частота патологии клапанного аппарата сердца в основной группе и группе контроля – 10% и 8,6% – не различались. Кроме того, у пациенток основной группы отсутствовали и «доброкачественные» аритмии сердца (миграция водителя ритма, эпизоды нижнепредсердного ритма, редкие эпизоды желудочковой парасистолии), что могло бы косвенно указать на малые аномалии сердца в рамках ДСТ. Поэтому в данном исследовании говорить о дисплазии соединительной ткани у пациенток с аплазией влагалища и матки нецелесообразно. Полученные данные согласуются с результатами исследования Lalatta F. и соавт. (2015), которые провели дисморфологическую оценку у 115 пациенток с синдромом Мейера–Рокитанского–Кюстера–Хаузера и не выявили внешних отклонений от нормы, за исключением несколько вытянутой формы век [19].
Об имеющихся дизрегуляционных аспектах можно говорить и при анализе патологии ЖКТ, частота которых в основной группе достигала 19% (78 пациенток). Учитывая, что специальные исследования на предмет выявления пороков развития органов ЖКТ не проводились, поэтому говорить о нарушении эмбриогенеза на уровне ЖКТ у пациенток с пороками развития гениталий также преждевременно.
Дизрегуляционный статус у пациенток с аплазией влагалища и матки подтверждали высокая частота аллергических реакций (20,2%) (особенно у пациенток с функционирующими маточными рудиментами – 28,5% по сравнению с 19,2% в 1-й подгруппе), в то время как в группе контроля данная патология не превышала 10,6%.
О нарушении дизэмбриогенеза можно говорить и при анализе интраоперационных находок, когда нередко выявлялись пороки маточных труб, яичников и т.д.
В нашем исследовании по результатам гистологического исследования маточных рудиментов с подтверждением функциональной активности, выявлена преимущественно фаза пролиферации (62,5% случаев), реже встречалась фаза секреции. Однако в некоторых исследованиях указывается, что в маточных рудиментах с полостью эпителий низкокубический и желез не формирует [20]. В других исследованиях авторы отмечают наличие правильной дифференцировки тканей в маточных рудиментах, отмечая, что у пациенток с сопутствующими пороками развития других органов и систем такая дифференцировка менее выражена [21]. Кроме того, в некоторых исследованиях авторами отмечается нарушение децидуализации в эндометрии маточных рудиментов в сравнении с эндометрием, выделенным при получении хирургического материала после гистерэктомии на 9-й день цикла [22]. Однако такие исследования единичны, а проведение сравнения между результатами гистологического исследования предполагает разработку единых критериев для описания рудиментов, которые в настоящее время отсутствуют.
Что касается анализа полученных данных при иммуногистохимическом исследовании функционирующих маточных рудиментов, то можно сказать о том, что у пациенток основной группы отмечено повышение, в отличие от группы сравнения, уровня матричных металлопротеиназ (MMP2 и -9), которые определяют ремоделирование тканей, ангиогенез, пролиферацию, миграцию и дифференциацию клеток, апоптоз, расщепление коллагена до фибронектина и т.д. В предварительных исследованиях однозначно сложно сказать, является ли повышенный уровень ММР следствием циклических изменений у пациенток с функционирующими рудиментами в условиях нарушения оттока крови и микроциркуляции или следствием мезодермальной дисморфопатии. Ряд исследователей уровень тканевой дифференцировки связывают со степенью тяжести сопутствующих пороков развития [20], а уровень ММР2 в рудиментах в другом исследовании маркировался на уровне детекции [21]. Выраженное в различной степени повышение экспрессии ММР2 и ММР9, сопровождающееся нарушением их межклеточной кооперации, по мнению некоторых авторов, может быть обусловлено наличием недифференцированной дисплазии соединительной ткани [23]. Полученные нами данные не позволяют делать выводы о наличии закономерностей в распределении, экспрессии и накоплении металлопротеиназ в клетках маточных рудиментов и группе сравнения. Однако с учетом малочисленности группы, но впервые полученных данных по иммуногистохимическим особенностям распределения маркеров дезорганизации соединительной ткани, считаем возможным проведение дальнейших исследований в этом направлении.
Заключение
Пациентки с аплазией матки и влагалища имеют более высокий коэффициент пороков развития других органов и систем, чем женщины с другой гинекологической патологией, что указывает на нарушение эмбриогенеза.
У пациенток с аплазией матки и влагалища при наличии функционирующих рудиментов преобладает дизрегуляционная патология (нейро-сосудистые проявления, дисфункциональные заболевания мочевыделительной и пищеварительной систем и т.д.).
Функционирующие рудименты матки могут подвергаться тем же патологическим процессам, что и нормальная матка (миома, эндометриоз).
Учитывая, что пороки развития в раннем неонатальном возрасте трудны для выявления и высокую частоту пороков развития мочевыделительной системы, достигающую 50%, необходимо всем девочкам в младенческом возрасте проводить УЗИ органов мочевыделительной системы.
Пациентки с аплазией влагалища и матки в обязательном порядке должны быть обследованы на кариотип.