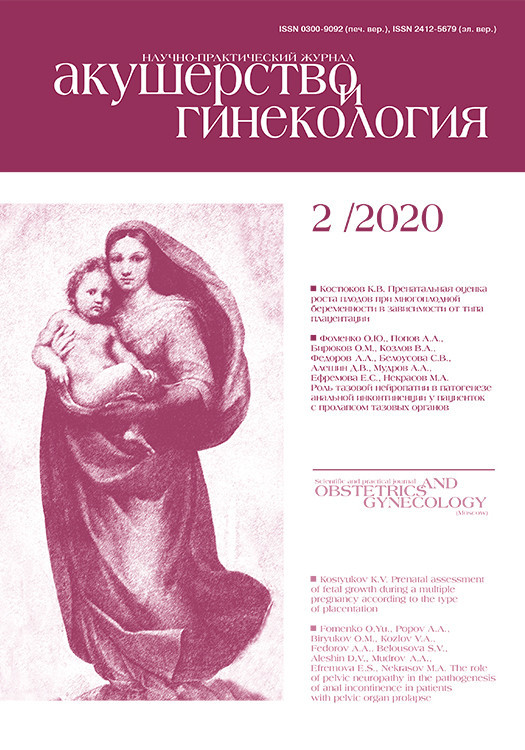Синдром Тернера (СТ) – хромосомное заболевание, которое встречается с частотой 1:2500 женщин. Около половины пациентов имеют кариотип 45,Х; 30% имеют мозаицизм (45,Х плюс хотя бы еще одна клеточная линия), а остальные – Х-хромосомные структурные аномалии. Низкий рост и бесплодие – основные жалобы больных СТ, что проявляется дисморфизмом, а именно в виде вальгусной деформации пальцев, низкой линии роста волос, нижней челюсти, множественных пигментных невусов, характерного лица, короткого четвертого пальца стопы, высокого сводчатого нёба, шейной складки и отеков кистей и стоп [1]. Менее распространенными, но более значительными проявлениями СТ могут быть эндокринные и сердечно-сосудистые отклонения, которые приводят к отсроченным и тяжелым осложнениям у больных СТ.
Цель настоящего обзора – описание эндокринопатий (а именно остеопороза, гипотиреоза и сахарного диабета) и основных кардиопатий у больных СТ, а также обобщение результатов скрининга и терапии для этих пациентов.
Эндокринопатии
Остеопороз
Остеопороз проявляется нарушением деминерализации костей из-за дефицита эстрогенов, который приводит к снижению костной массы и прочности и, как следствие, к повышенному риску патологических переломов. Это происходит с частотой до 60–80% у больных СТ [2].
В крупном эпидемиологическом исследовании было показано, что риск переломов у женщин с СТ примерно в два раза выше, чем в общей популяции [2]. Дисгенезия гонад является распространенным осложнением у больных СТ, которое приводит к дефициту эстрогенов. Дефицит половых гормонов проявляется еще до полового созревания. Было установлено, что в препубертатном периоде средний уровень эстрадиола у девочек с СТ значительно ниже, чем у здоровых [3]. Распространенность спонтанного полового созревания составляет 6% для 45,X и 54% – для разных мозаичных кариотипов [4]. Эстрадиол оказывает существенное влияние на метаболизм костной ткани [5] и дифференцировку остеокластов в основном через эстрогеновый рецептор α, который, как представляется, является основным медиатором действия эстрогенов на скелет. Воздействие эстрадиола на кость, по-видимому, дозозависимое, и низкие уровни воздействия могут повысить механическую чувствительность надкостницы, тогда как более высокие концентрации могут ингибировать периостальные наложения, уменьшая толщину кортикального слоя [6]. Эстроген-дефицитное состояние у больных СТ является основным фактором, который оказывает влияние на дисбаланс костного метаболизма, включая низкую минеральную плотность кости (МПК), повышает риск переломов из-за хрупкости костей [7].
Пациенты с СТ имеют высокий уровень сывороточного фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ) в детском возрасте и в период ожидаемого полового созревания [8]. ФСГ может связываться непосредственно с рецептором ФСГ, который экспрессируется на остеокластах и их предшественниках и способствует дифференцировке и функционированию остеокластов [9]. Секреция ФСГ влияет на остеокластогенез путем синтеза фактора некроза опухолей α (ФНО-α) из гранулоцитов и макрофагов костного мозга, который, в свою очередь, повышает количество предшественников остеокластов костного мозга, что приводит к стремительной потере костной массы [10–12]. Повышенный уровень ФСГ может также способствовать экспрессии активатора рецептора ядерного фактора каппа-B на моноцитах человека, что способствует увеличению скорости потери костной массы за счет стимуляции развития клеток-предшественников остеокластов [13–15]. ФСГ-индуцированный остеокластогенез также реализуется через CD11b+ предшественников остеокластов в зависимости от концентрации со значительным эффектом при 3 нг/мл ФСГ, тогда как ЛГ (10 или 100 нг/мл) не стимулирует дифференцировку остеокластов [9]. Таким образом, повышенный уровень ФСГ приводит к низкой МПК, а низкий уровень ФСГ во время терапии эстрогенами (ТЭ) приводит к увеличению костной массы [8].
В исследовании Bakalov V.K. и соавт. [16], в котором принимала участие 41 женщина с СТ (18–45 лет) и 35 женщин соответствующего возраста (46,ХХ) с преждевременной недостаточностью яичников, было показано избирательное снижение кортикальной МПК при СТ, что позволило предположить, что избирательное снижение кортикального слоя кости при СТ связано с гаплоидной недостаточностью Х-хромосомы, а не с воздействием гормонов яичников. Считают, что гаплоидная недостаточность гена гомеобокса низкого роста (SHOX), расположенного на Xp22.33 и Yp11.2, может быть ответственна за этот избирательный дефицит у больных СТ [15, 17]. У девочек с СТ в период препубертата и у пациенток с недостаточностью SHOX также были выявлены увеличенная общая площадь кости и тонкая кортикальная кость в проксимальном радиусе, что позволяет предположить, что недостаточность SHOX может быть причиной изменения геометрии кости и ее микроархитектуры, но не прочности [17–19].
Витамин D, кальций и паратиреотропный гормон (ПТГ) участвуют в патофизиологии остеопороза. В исследовании с участием 14 больных СТ и 15 здоровых девочек, которые придерживались диеты с низким содержанием кальция, уровни остеокальцина сыворотки крови измеряли после перорального приема 1,25(OH)2D3. Снижение уровня ионизированного кальция и повышенные значения ПТГ одинаково часто встречались как у больных СТ, так и в контрольной группе, но в контрольной группе не было повышения уровня 1,25(OH)2D3 в сыворотке крови. Были сделаны выводы, что у больных СТ наблюдается изменение метаболизма витамина D в почках в ответ на физиологическое раздражение, в то время как функция остеобластов в ответ на введение 1,25(ОН)2D3 не изменяется.
Гипотиреоз
СТ связан с повышенной частотой аутоиммунных нарушений, в частности, часто поражается щитовидная железа. Гипотиреоз встречается у больных СТ значительно чаще, чем у здоровых людей (контроль) [20], с почти равномерным распределением между 45,X (52%) и мозаичным кариотипом (48%) у женщин с СТ. Пациенты с Х-изохромосомией более склонны к развитию аутоиммунного тиреоидита, а клинические проявления варьируют от бессимптомного до явного гипотиреоза. Распространенность гипотиреоза повышается с возрастом и составляет 15% у пациентов моложе 10–14 лет и 30% у лиц старше 20 лет [20]. По мере взросления у больных СТ повышаются уровни тиреотропного гормона (ТТГ) и тиреоидной пероксидазы (ТПО), хотя значения все еще могут оставаться в пределах нормы.
Больные СТ предрасположены к аутоиммунным заболеваниям [21]. Аутоиммунные тиреоидиты характеризуются аномальной активацией лимфоцитов против собственных антигенов, тиреоглобулина (ТГ) и ТПО [22]. Повышенный уровень ТПО, который имеет прямую корреляцию с концентрацией ТТГ, чаще связан с аутоиммунным гипотиреозом. Титр уровня антител к ТПО (ТПО-АТ) у больных СТ повышается с возрастом. Повышенное распределение ТПО-АТ среди разных кариотипов выглядит следующим образом: 42% – с изохромосомией, 22,2% – с Х-моносомией и 17,4% – с другими кариотипами [20, 23]. Уровни циркулирующего свободного тироксина (Т3 и Т4), ТТГ, ТПО-АТ и антител к тиреоглобулину требуют тщательного мониторинга.
Сахарный диабет
Снижение секреции инсулина при повышении уровня глюкозы присуще СТ и представляет собой высокий риск развития сахарного диабета 2 типа (СД2). Увеличение возраста связано с резистентностью к инсулину, дальнейшим снижением чувствительности к инсулину, а затем нарушением толерантности к глюкозе и явным СД [24, 25].
СД2 является эндокринным осложнением, которое в 2–4 раза чаще встречается у больных СТ, чем у здоровых женщин, и может возникать в любом периоде жизни, обычно манифестируя в возрасте 30–40 лет [24]. Было установлено, что распространенность СД2 в 20–39 лет составляет 3,1%, в 40–59 лет – 12,4% и в 60–74 лет – 29% [25]. Основная псевдоаутосомная часть Х-хромосомы (ПАЧХ) расположена на дистальной части Хр, которая идентична хромосомам X и Y и не подвергается инактивации X-хромосомы. Считается, что гаплонедостаточность генов, расположенных на этом участке, ответственна за фенотип СТ. Гены в ПАЧХ кодируют несколько типов рецепторов, таких как рецепторы к фосфолипазе, протеинфосфатазе, ГТФ-связывающим белкам, транспортерам АТФ и факторам транскрипции. Следовательно, гаплонедостаточность генов факторов транскрипции ответственна за аномальную секреторную реакцию инсулина, характерную для СТ [16]. Частота СД2 в группах 45,X и i(Xq) составляет 17,8 и 40% соответственно [25]. Более высокий риск развития СД2, обнаруженный в группе 46,X,i(Xq), также может быть связан с аутоиммунным компонентом p-клеток. Гаплонедостаточность гена Xp вызывает основной дефицит функции p-клеток, наблюдаемый у 45,X пациентов, а избыточное количество генов Xq усугубляет дефицит, возможно, за счет изменения других генов, вовлеченных в развитие и функцию p-клеток или их выживание. Антитела против декарбоксилазы глутаминовой кислоты (ДГК65) также могут быть обнаружены у некоторых больных с кариотипом i(Xq). Может быть «тлеющая» аутоиммунная реакция против р-клеток, сходная с латентным аутоиммунным диабетом у взрослых, который усугубляет диабетический диатез у женщин с i(Xq) [26]. Диабетический фенотип у пациентов с СТ, по-видимому, сходен с диабетом молодого возраста, вызванным гаплонедостаточностью генов, участвующих в p-клеточном восприятии глюкозы (глюкокиназы) или ее функциональной активности (печеночные ядерные факторы). Нарушение гомеостаза глюкозы не является вторичным по отношению к ожирению или гипогонадизму у пациенток с СТ, но оно отчетливо характеризуется снижением секреции инсулина, что подчеркивает, что гаплонедостаточность генов Х-хромосомы нарушает функцию р-клеток и предрасполагает к СД2 у больных СТ [16].
Кардиопатии
Сердечно-сосудистые нарушения являются основными причинами заболеваемости и смертности у пациентов с СТ, при этом ожидаемая продолжительность жизни снижается на 10 лет [27]. Распространенность пороков сердца составляет 23%, по некоторым данным, даже 45–56% у больных СТ. Распределение кариотипа в основном составляет: 45,Х – 54%, Х-структурные аномалии – 33% и Х-мозаицизм – 13%. Аналогичные результаты были получены в исследовании Sybert V.P. [28].
Врожденные пороки сердца чаще представляют собой обструктивные поражения левого отдела сердца. Большинство новорожденных с 45,X погибают вследствие сердечно-сосудистых дефектов, особенно дефектов оттока левого желудочка [28]. Скрининг при помощи трансторакальной эхокардиографии (ТТЭ) показывает, что пороки развития двустворчатого аортального клапана (ДАК) (12,5–30%), коарктация аорты (КОА) (6,9–11%) и недостаточность аортального клапана (3,2%) являются наиболее распространенными отклонениями развития среди живых родившихся больных СТ, которые могут возникать независимо друг от друга или при их сочетании [27, 28]. Аномалии развития левых отделов сердца приводят к приобретенным сердечным осложнениям, включая гипертрофию левого предсердия и желудочка, постоянную гипертензию, стеноз аорты и аортальную регургитацию. СТ связан с персистирующей гипертонией в детском возрасте. Тридцать процентов пациентов с СТ имеют умеренную гипертонию по сравнению с контрольной группой соответствующего возраста [29]. Постоянно повышенное систолическое артериальное давление является фактором риска расширения корня аорты, что может привести к разрыву стенки аорты. Разрывы аорты у больных СТ встречаются в 100 раз чаще [30] и могут иметь место в любом возрасте, что приводит к внезапной смерти, риск повышается при наличии дефекта ДАК [31]. Частота встречаемости частичного аномального легочного венозного оттока и КОА выше при 45,X кариотипе, в то время как ДАК и недостаточность аортального клапана были выше при Х-структурных отклонениях [27]. Точная этиология кардиопатий при СТ неясна. Несмотря на это, есть мнение, что за предрасположенность к кардиопатиям у больных СТ отвечают некоторые участки хромосом 18q, 5q, 13q и NOTCH1 (9q34.3) гены. Но нет данных, подтверждающих их участие только при СТ [32–35].
Рекомендации по скринингу эндокринопатий и кардиопатий при синдроме Тернера
Синдром Тернера имеет четкие клинические особенности и вариации кариотипа. В настоящее время доступны как клинические, так и лабораторные диагностические руководства для СТ. К ведению таких больных следует привлечь узких специалистов, в их числе эндокринолог, кардиолог, гинеколог, ортопед, психиатр и медицинский генетик. Системный подход важен для того, чтобы не пропустить какие-либо структурные или функциональные аномалии.
Объективное обследование
Будучи вторичной по отношению к тщательному анамнезу, главная цель первого визита к врачу – оценка и распознавание главных клинических проявлений СТ, в их число входят: недоразвитие молочных желез, аменорея, низкий рост, отеки рук и стоп, складки затылочных мышц, низкая линия роста волос, низко посаженные уши, маленькая челюсть, вальгус локтя, гипоплазия ногтей, гипервыпуклые ногти, множественные пигментные невусы и т.д. Артериальное давление, индекс массы тела и соотношение талии и бедер очень важны для измерения. Шумы при аускультации предполагают сердечно-сосудистые отклонения. Важно отметить, что для диагностики СТ важно наличие сочетания фенотипических признаков и особенностей кариотипа!
Цитогенетика
Кариотипирование является стандартом для диагностики СТ при наличии соответствующего фенотипа. Для этого требуется минимальный стандарт из 30 клеток, показывающий немозаичный 45,X кариотип, или число до 100 клеток, если мозаичный кариотип обнаруживают в первых 20 подсчитанных клетках. Пренатальная диагностика может указывать на кариотип, согласующийся с диагнозом СТ, но фенотип индивидуума не может быть точно предсказан. Идентификация материала Y-хромосомы у пациентов с СТ важна, поскольку она связана с риском развития гонадобластомы [36].
Биохимия
Необходимые анализы включают: полный клинический анализ крови, профиль коагуляции и базовую метаболическую панель для оценки уровня натрия, калия, кальция, азота мочевины крови, креатинина, глюкозы, витамина D, остеокальцина, уровня холестерина, а также уровня триглицеридов. Показатели уровня глюкозы в крови натощак и липидного профиля при первом посещении можно использовать для последующего мониторинга их динамики. Функциональные тесты печени очень важны из-за высокой частоты холестаза печени у пациентов с СТ (43%) по сравнению с общей популяцией.
Эндокринные тесты
Эндокринные тесты важны для диагностики эндокринного дисбаланса и мониторинга динамики клинической картины. Уровни ФСГ, ЛГ, ингибина B, эстрадиола, прогестерона, антимюллерова гормона (AMГ) и тестостерона необходимы для оценки функции яичников и прочих функций, связанных с эстрогеном. У больных СТ ФСГ обычно выше, тогда как эстрадиол, напротив, ниже в случаях, когда не проводится заместительная гормональная терапия [3, 4]. У этих пациенток наблюдается первичная гипергонадотропная аменорея. АМГ определяют только при наличии вторичной аменореи. Уровни ПТГ (паратиреоидный гормон), сывороточного кальция, витамина D, остеокальцина, а также некоторые костные маркеры резорбции и образования костей также важны для диагностики метаболических нарушений костного обмена (для диагностики остеопороза используется DEXA). Для оценки полученных показателей применяют Z-критерий, отражающий степень отклонения полученных результатов от нормальных для данного хронологического возраста и пола. Значения Z-критерия <–2,5 расценива.тся как остеопороз, а при его снижении от –1,0 до –2,5 SD – как остеопения.
Измеряют базовые уровни ТТГ, общего или свободного Т4 и уровень тиреотропина. Аутоиммунный тиреоидит имеет повышенные титры антител против щитовидной железы, включая рецепторные антитела ТГ-АТ, ТПО-АТ и антитела к рецептору ТТГ (ТТГР-АТ). Уровень глюкозы в периферической крови измеряют с помощью глюкометра. Двухчасовой постпрандиальный быстрый уровень глюкозы в крови или оральный тест на толерантность к глюкозе, а также уровень гликированного гемоглобина являются диагностическими критериями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) CД.
Методы визуализации
Ультрасонография (УСГ) является важным диагностическим инструментом в клинической практике. Размеры матки и яичников у больных СТ значительно меньше, чем у здоровых девочек [37]. Яичники могут полностью отсутствовать или представлять собой небольшие железы с мелкими кистами вплоть до неразличимых яичников (гонады). Пороки развития мочевыделительной системы встречаются у 33% пациенток с СТ и включают в себя подковообразную почку, удвоение коллекторной системы, обтурацию лоханочно-мочеточникового сегмента или полное отсутствие одной почки. Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек следует проводить после постановки диагноза СТ. Размер, форма, симметрия, увеличение или уменьшение размеров щитовидной железы, а также наличие узлов или кровеносных сосудов в щитовидной железе должны быть визуализированы. УЗИ печени проводится для исключения бессимптомного холестаза печени [37]. Все пациенты с СТ нуждаются в комплексной сердечно-сосудистой оценке для диагностики врожденных пороков сердца. Электрокардиограмма (ЭКГ) – это базовое исследование сердца новорожденного после родов. ТТЭ начинается со стадии плода и продолжается в течение всей жизни пациента. Диагностический ТТЭ выявляет пороки развития у 30% пациентов с СТ по сравнению с 1–2% в общей популяции [38]. ДАК, КOA и расширение аорты присутствуют у 32–42% женщин с СТ [39]. Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) с гадолинием могут использоваться в указанных случаях для лучшей визуализации дуги аорты. Рентген, измерение МПК, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия и периферическая количественная КТ являются неинвазивными методами, используемыми для оценки состояния костей. Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия обычно используется для оценки плотности костной ткани и помогает различать остеопению и остеопороз на основе Z-критерия [40].
Рекомендации по лечению эндокринопатий и кардиопатий при синдроме Тернера
Хотя нет определенного лечения СТ, подходы должны быть междисциплинарными, включая эндокринологию, педиатрию, гинекологию, психологию, генетику и кардиологию.
Консультирование
Психологическое лечение имеет важное значение для этих пациентов. Диагноз должен быть тщательно объяснен простыми словами с учетом реакции пациента или родителей. Информация должна быть открытой и честной. Основное беспокойство у большинства пациентов заключается в том, могут ли они достичь половой зрелости в молодом возрасте и иметь нормальное половое развитие и возможность иметь детей. Медицинские работники должны создать комфортные условия для таких бесед и предоставить наилучший возможный план лечения.
Терапия эстрогенами
Цель терапии эстрогенами (ТЭ) – восполнить дефицит эстрогена таким образом, чтобы оптимизировать потенциал роста, позволить достичь нормальной костной массы и обеспечить соответствующую феминизацию. Лечение следует начинать в возрасте от 12 до 14 лет. Для лечения больных СТ выбор делается в пользу эстрогенов, идентичных натуральным, – эстрадиолу. Доза эстрогена и способ введения должны быть индивидуальны. Следует принять во внимание предпочтения пациента и сопутствующие заболевания. Обычно используют пероральный эстрадиол 2 мг/сут, трансдермальный эстрадиол 0,1 мг/сут или инъекции эстрадиола ципионата 2,5 мг/мес. ТЭ является долгосрочной терапией и продолжается до тех пор, пока женщины не вступят в менопаузу. Прогестерон должен быть добавлен для предотвращения гиперплазии эндометрия, вызванной эстрогенами, и для регулирования менструальных кровотечений. При выборе прогестагена предпочтение следует отдавать «нейтральному» прогестагену (дидрогестерон, микронизированный прогестерон). Комбинированная терапия (эстроген+прогестаген) назначается в циклическом режиме.
Терапия гормонами роста
В настоящее время рекомендуется начинать терапию гормонами роста (ГР), как только будет клинически выявлена недостаточность роста (снижение процентилей роста на нормальной кривой роста) [41]. Типичные дозы ГР составляют 45–50 мкг/кг/сут, увеличиваясь до 68 мкг/кг/сут с контролем роста каждые 4–6 месяцев в течение первого года и каждые 6 месяцев после этого. Как правило, ГР продолжается до тех пор, пока пациент не достигнет удовлетворительного роста взрослого или пока пациент не перестанет отвечать на терапию [42]. Неароматические анаболические стероиды, такие как оксандролон в дозе менее 0,05 мг/кг/сут, могут вводиться в сочетании с ГР для ускорения роста, обычно у девочек старше 8–9 лет и при чрезвычайно низком росте. Комбинация лечения ГР и ТЭ приводит к большему увеличению массы костной ткани в период полового созревания. 7-летнее исследование показало, что терапия ГР не влияет на чувствительность к инсулину и секреторную способность β-клеток у девочек с СТ [43].
Дополнительное введение гормонов
Монотерапия L-тироксином является основой лечения гипотиреоза. Дозу L-тироксина начинают на основании начальных значений ТТГ в сыворотке крови следующим образом: 25 мкг для ТТГ 4,0–8,0 мМЕ/л, 50 мкг для ТТГ 8–12 мМЕ/л и 75 мкг для ТТГ более 12 мМЕ/л. Пациенты ежегодно проводят определение свободного Т4 и ТТГ в сыворотке крови в течение всей жизни.
СД при СТ лечится так же, как и у больных в общей популяции в соответствии с клиническими рекомендациями лечения диабета. Дозы гипогликемических препаратов и инсулина подбираются с учетом индивидуальных потребностей [44]. Важно поддерживать адекватное потребление кальция и витамина D с пищей для соответствия диетическим нормам и терапевтической цели для уровня витамина D в пределах 30–70 нг/мл.
Мониторинг сердечно-сосудистой системы
По сравнению с общей популяцией, у больных СТ частота сердечно-сосудистых заболеваний составляет около 30%, а риск расслоения аорты в молодом возрасте у пациентов с СТ увеличивается. Сопутствующие осложнения включают гипертонию, ишемическую болезнь сердца и инсульт. После постановки диагноза СТ обычно каждые 6–12 месяцев проводится ТТЭ-мониторинг анатомических дефектов и функциональных несоответствий [45], за исключением случаев внезапного появления таких симптомов, как боль в груди и дискомфорт в спине. Беременность наступает спонтанно у 2–5% пациенток с СТ [46]. В связи с физиологическими изменениями в конституции тела женщины во время беременности, кардиомониторинг становится необходим на протяжении всей беременности и до 8 дней после родов, так как риск расслоения аорты во время беременности может составлять до 2%, а риск смерти во время беременности увеличивается в 100 раз [46]. Операции на сердце и интервенционная катетеризация, доступные для пациентов с СТ, включают в себя операции на дуге аорты, перевязку открытого артериального протока, баллонное расширение легочной артерии, баллонную септостомию предсердия, катетерное закрытие дефектов межпредсердной перегородки, баллонное расширение аортального клапана и митрального клапана, баллонную коррекцию КОА [47] .
Заключение
Эндокринопатии и кардиопатии могут быть значительными осложнениями на протяжении всей жизни для больных СТ. Независимо от того, связаны ли эти патологии с возрастом или кариотипом, мультидисциплинарный подход к лечению должен быть доступен всем больным с СТ. Эндокринопатии требуют раннего выявления посредством анализа соответствующих сывороточных маркеров, чтобы начать соответствующую индивидуализированную заместительную гормональную терапию и определить продолжительность терапии. Анатомические дефекты сердца должны тщательно контролироваться повторными УЗИ и КТ/МРТ для выявления дефектов и связанных с ними осложнений опытным кардиологом в течение всей жизни пациентки и во время беременности. Сердечные вмешательства и операции могут быть средством коррекции для указанных экстренных случаев.