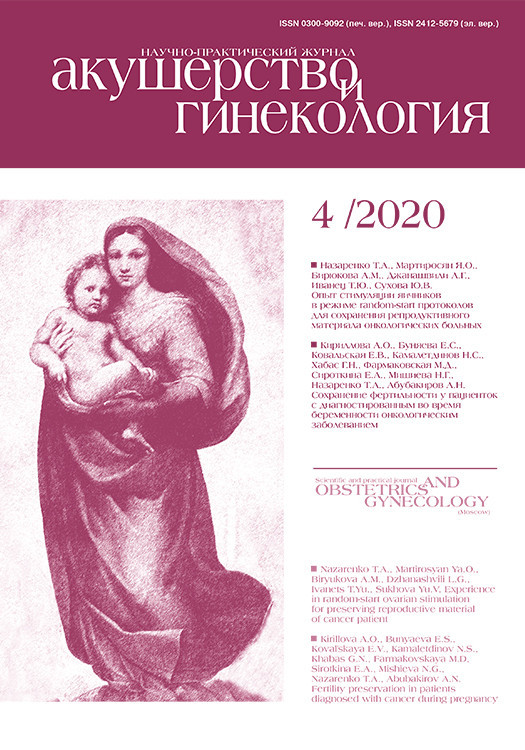Астенозооспермия – сперматологический синдром, который характеризуется снижением доли подвижных сперматозоидов. Это частая диагностическая находка у бесплодных мужчин. Так, в одном из исследований более 80% образцов спермы, полученных у пациентов из бесплодных пар, характеризовались снижением подвижности сперматозоидов [1]. В нескольких протеомных исследованиях продемонстрировано, что некоторые белки сперматозоидов способны влиять на их подвижность [2, 3]. Тем не менее, наше понимание того, как посттестикулярные процессы влияют на подвижность сперматозоидов и мужскую фертильность в целом, пока ограничено. Молекулярные факторы, лежащие в основе астенозооспермии, остаются плохо изученными. Это связано с тем, что относительно мало известно о белках, регулирующих функцию сперматозоида в нормальных физиологических условиях, и с тем, что доступ к инструментам для изучения протеомного профиля есть далеко не у всех исследователей. Отклонения в экспрессии белков сперматозоидов и семенной плазмы можно обнаружить, используя различные методы очищения и идентификации молекул. Для того чтобы оценить имеющиеся результаты и перспективы применения протеомного анализа для изучения механизмов развития астенозооспермии, мы провели поиск в базах данных PubMed и Google Scholar с использованием ключевых слов «asthenozoospermia», «sperm motility», «proteomics», «mass spectrometry» и проанализировали публикации с 1996 по 2019 гг.
В настоящее время методика двухмерного электрофореза в геле в сочетании с идентификацией белков сперматозоидов при помощи масс-спектрометрии дает возможность сравнения протеомных карт независимых образцов эякулята [4]. Этот подход позволил выявить несколько белков, нарушение экспрессии которых наблюдается при астенозооспермии [3]. Для идентификации белков, присутствующих в сперматозоидах человека, применялась тандемная масс-спектрометрия [5, 6]. Однако потенциал протеомных исследований для выяснения фундаментальных аспектов функций сперматозоидов и молекулярных причин астенозооспермии еще не раскрыт полностью. Martinez-Heredia et al. сравнили экспрессию белков по 101 наиболее богатому участку, выявленных при двухмерном гелевом электрофорезе образцов сперматозоидов от 20 пациентов с астенозооспермией и 10 здоровых доноров [2]. Им удалось идентифицировать белки, содержащиеся при астенозооспермии в ином количестве. Этим белкам соответствовало 17 участков при выполнении гелевого электрофореза, и часть из них имели повышенную, а часть – сниженную экспрессию при астенозооспермии.
Семенная плазма содержит секреты яичек, придатков яичек, простаты, семенных пузырьков и бульбоуретральных желез. Высокая концентрация фруктозы в семенной плазме обеспечивает энергию и нутритивную поддержку для сперматозоидов. Многие белки семенной плазмы, такие как инсулиноподобный фактор роста 1, альфа-2-макроглобулин, фибронектин и энкефалин-деградирующие ферменты, ассоциированы с подвижностью сперматозоидов [7, 8, 9]. Для изучения протеома семенной плазмы используются специальные методы, такие как двумерный гель-электрофорез и масс-спектрометрия. Эти исследования начались достаточно давно. Еще в 2001 г. Starita-Geribaldi et al. идентифицировали с помощью этих методов 750 участков на электрофоретической карте семенной плазмы фертильного мужчины [10]. Позже эти же авторы сообщили об обнаружении 61 белка с дифференциальной экспрессией с помощью тандемной масс-спектрометрии [11]. Pilch B. и Mann M. каталогизировали 932 белка семенной плазмы с помощью масс-спектрометрии с преобразованием Фурье [12]. Li et al. идентифицировали 115 белков в секрете простаты, который является компонентом семенной плазмы [13]. Однако данных по сравнительному протеомному анализу семенной плазмы у фертильных и субфертильных мужчин не так уж много. Глубокое понимание протеома семенной плазмы помогло бы прояснить роль белковых компонентов эякулята в регуляции подвижности и других важных функций сперматозоидов. Возможно обнаружение новых диагностически ценных биомаркеров мужской инфертильности, более объективных, чем рутинная спермограмма.
Последние достижения протеомных технологий и масс-спектрометрии сделали их ценными инструментами для изучения разнообразных биологических жидкостей, в том числе и семенной плазмы. Интересно, что наибольшее количество работ по протеомике и репродуктивным нарушениям у мужчин посвящено именно нарушениям подвижности сперматозоидов [14]. Wang et al. с высокой точностью идентифицировали 741 белок в образцах семенной плазмы пациентов с астенозооспермией и здоровых фертильных мужчин, причем 327 не были обнаружены в базе Pilch B. и Mann M. [15].
Они наблюдали значительную положительную регуляцию 45 белков и отрицательную регуляцию 56 белков в группе астенозооспермии. Анализ обогащения генной онтологии показал, что белки с наибольшей экспрессией в образцах, полученных у пациентов с астенозооспермией, являются метаболическими ферментами, участвующими, в частности, в протеолизе.
Функция белков, потенциально ассоциированных с астенозооспермией
Из 17 белков, выявленных Martinez-Heredia et al., 14 принадлежали к трем функциональным группам: энергетический обмен, структура и подвижность, клеточные сигналы и регуляция [2]. Белки COX6B, DLDpre, FHpre и ECH1pre входят в группу энергетического обмена. В группу структурных и ответственных за подвижность белков входят ACTB, H2A, PIP, PIPpre и SEMG1. В регуляции передачи клеточных сигналов участвуют ANXA5, S100A9 и IMPA1. При этом 6 из этих белков выявлены лишь в виде предшественников (PIPpre, CLUpre, DLDpre, FHpre, ECH1pre и SEMG1pre). Не исключено, что накопление белков-предшественников в малоподвижных сперматозоидах может говорить о нарушении процессов посттрансляционной модификации, как одной из главных причин астенозооспермии. Так, накопление предшественника протамина-2 в сперматозоидах при некоторых формах бесплодия уже было задокументировано [16]. С другой стороны, накопление прекурсоров косвенно указывает на возможный дефицит функции зрелых форм этих белков. Анализ фосфопротеома подвижных и малоподвижных сперматозоидов продемонстрировал большее содержание фосфорилированной гликогенсинтаза-киназы-3α именно в гаметах с хорошей подвижностью, что лишний раз подчеркивает важность посттрансляционной модификации белка в плане регуляции этой функции сперматозоида [17]. Убиквитинирование и сумоилирование тоже являются важными маршрутами посттрансляционной модификации, способными регулировать мужскую фертильность [18]. В связи с присутствием этого этапа биосинтеза белка степень экспрессии того или иного фактора при протеомном анализе оценить можно лишь косвенно.
К группе белков энергетического обмена принадлежит COX6B. Существуют специфичные для яичка изоформы этого фермента [19]. Цитохром-C-оксидаза является терминальным ферментом дыхательной цепи, катализирующим перенос электронов к кислороду, сопряженный с транслокацией протонов и необходимый для синтеза аденозинтрифосфата (АТФ). Снижение экспрессии COX6B может приводить к угнетению продукции АТФ, а дефицит энергии, в свою очередь, может снижать подвижность сперматозоидов. DLD является одним из трех катализаторов пируват-дегидрогеназного комплекса, конвертирующего пируват в ацетил-КоА. Описано накопление прекурсора DLD (DLDpre) в сперматозоидах, которое может отражать сниженную функцию зрелого фермента. Потенциальный дефицит активности DLD может приводить к метаболическим нарушениям, включая лактат-ацидоз, дисфункцию цикла Кребса и измененную деградацию аминокислот с разветвленными боковыми цепями. Дисфункция цикла Кребса сама по себе достаточна как причина снижения подвижности сперматозоидов. Известно, что частота биения хвоста сперматозоидов напрямую связана с выработкой энергии, сохраненной в АТФ [20]. Описано также накопление предшественника фумарат-гидратазы, которая принимает участие в цикле лимонной кислоты Кребса [21]. Было найдено несколько белков, нарушение функции которых способно приводить к дефициту АТФ в сперматозоиде, а значит, к нарушению паттернов движения хвоста и, в конце концов, к астенозооспермии. Результаты исследований Martinez-Heredia et al. и Zhao et al. отражают дисрегуляцию метаболических процессов, как комплексную причину развития астенозооспермии [2, 3].
Несмотря на то что углеводный и энергетический обмен не являются тождественными понятиями, к числу регуляторов последнего можно условно отнести глюкозо-6-фосфат-изомеразу. Это фермент, который осуществляет конверсию глюкозы во фруктозу – основной субстрат для энергетического обмена сперматозоидов. В работе Guo et al. было подтверждено снижение концентрации этого фермента в образцах, полученных у пациентов с астенозооспермией; более того, введение этого фермента в среду приводило к усилению подвижности сперматозоидов in vitro [22]. Аналогично, сорбит-дегидрогеназа (SORD) превращает сорбит во фруктозу, и в исследовании Wu et al. было указано, что содержание SORD в семенной плазме выше при нормозооспермии по сравнению с астенозооспермией [23]. Также была продемонстрирована роль белков, регулирующих катаболизм жирных кислот, катаболизм углеродного скелета и окислительное фосфорилирование, причем большинство из этих ферментов локализуются в митохондриях [24].
К структурным и моторным белкам относят актин (ACTB), который является одним из важнейших белков цитоскелета и регулирует многие важные клеточные функции, включая подвижность, цитокинез, перемещение везикул и органелл, передачу сигналов, поддержание межклеточных контактов и формы клетки [25]. Полимеризация актина является важным регуляторным механизмом, ассоциированным с фосфорилированием тирозина в сперматозоидах [26]. Учитывая это, при снижении экспрессии актина можно ожидать снижения подвижности, так как без поддержки цитоскелета движения хвоста сперматозоида будут ненормальными. Есть ограниченная информация о пролактин-индуцируемом белке (PIP) как факторе подвижности сперматозоидов. PIP способен связываться с актином, хотя механизм и биологическая значимость этого процесса до конца не раскрыты [27, 28]. Этот белок также был обнаружен в постакросомальной зоне и остается связанным с поверхностью сперматозоида после капацитации, в связи с чем он может играть роль в процессе оплодотворения [29]. PIP является аспартил-протеиназой, специфичной по отношению к фибронектину. В ранних работах сообщалось, что PIP вызывает деградацию молекулы фибронектина, который является одним из основных белковых компонентов семенного сгустка, на долю которого приходится как минимум 1% всех белков семенной плазмы [30]. Это позволяет предположить, что PIP участвует в разрушении фибронектина при разжижении эякулята. Martinez-Heredia et al. наблюдали снижение экспрессии PIP и его предшественника при астенозооспермии, так как более вязкая семенная жидкость препятствует нормальной подвижности сперматозоидов [2]. Частота биения хвостов сперматозоидов обратно пропорциональна вязкости среды. Белок SABP, являющийся гомологом PIP, по данным иммунофлуоресцентного анализа имел более высокую экспрессию в эякуляте мужчин с астенозооспермией, по сравнению с материалом от мужчин с нормозооспермией [4]. Помимо этого, при астенозооспермии в эякуляте в большем количестве содержится семеногелин. У 14 кДа фрагмента семеногелина описана функция ингибитора подвижности сперматозоидов [28]. Также был описан 21 кДа фрагмент семеногелина с повышенной экспрессией у пациентов с астенозооспермией, который, вероятно, тоже служит ингибитором подвижности [2].
IMPA1 относится к белкам, ответственным за передачу клеточного сигнала и плейотропную регуляцию клеточных функций. Его повышенная концентрация также отмечалась в эякуляте мужчин с астенозооспермией [2]. IMPA1 – один из ферментов, участвующих в синтезе мио-инозитола и необходимых для эмбрионального развития [31]. Известно также, что этот фермент активен в ткани яичек, а концентрация мио-инозитола в семенных канальцах гораздо выше, чем в сыворотке крови [32]. Предполагается, что мио-инозитол участвует в осмотической регуляции состава семенной жидкости. Известно, что как гипоосмотическое, так и гиперосмотическое состояние среды значительно снижают прогрессивную подвижность сперматозоидов и скорость их передвижения [33]. Таким образом повышенная экспрессия IMPA1 может приводить к астенозооспермии. Такие белки, как ACTB, SEMG1, ECH1pre, DLDpre, FHpre, HSPA2, PSMB3 и SEMG1pre, ассоциированные со снижением подвижности сперматозоидов, оказались мишенями S-нитрозилирования в исследовании с тандемной масс-спектрометрией, а значит, в модуляции функции и подвижности сперматозоидов может принимать участие оксид азота [34].
HSPA2 является первым шапероном переходных белков TP1 и TP2 [35]. Была зафиксирована отрицательная регуляция гена HSPA2 у бесплодных мужчин [36]. HSPA2 является также компонентом синаптонемного комплекса. Существует связь между экспрессией HSPA2 и поздним сперматогенезом, а именно такими его этапами, как экструзия цитоплазмы и ремоделирование плазматической мембраны [37]. Избыточная экспрессия HSPA2 в биологическом материале, полученном у пациентов с астенозооспермией, может указать на нарушение одного из этих этапов сперматогенеза. Для белка теплового шока бета-1 (HSPB1), напротив, наблюдалась положительная регуляция, по крайней мере в одном исследовании с оценкой образцов семенной плазмы и сперматозоидов, полученных у пациентов с астенозооспермией [38]. Любопытно, что белок TEX12, экспрессия которого также меняется при астенозооспермии, тоже обнаруживается в синаптонемном комплексе [39].
Функция предшественника кластерина не ясна. Широкая распространенность и консервативность последовательности кластерина предполагают, что этот белок обладает фундаментально важной функцией в клетке и вне клетки. Что касается его влияния на фертильность, то он ассоциирован с предотвращением повреждающих окислительных реакций, преципитацией белка, агглютинацией аномальных сперматозоидов и комплемент-индуцированным лизисом сперматозоидов [2]. Способность этой молекулы предотвращать оксидативное повреждение полезна как для сперматозоидов в женских половых путях, так и для сперматозоидов, применяемых для вспомогательных репродуктивных технологий.
Вклад дисфункции простаты и придатков яичек в развитие астенозооспермии
Большинство белков в составе эякулята, включая серпин, ингибитор протеина C, семеногелины I и II, синтазу оксида азота, секретируются семенными пузырьками [40]. Wang et al. не удалось продемонстрировать связь между избытком или недостатком этих белков и астенозооспермией, хотя все они, за исключением синтазы оксида азота, были успешно определены в семенной плазме [15]. То же самое касается муцина, который является типичным компонентом секрета бульбоуретральных желез [12]. Вероятно, содержащиеся в секрете семенных пузырьков и бульбоуретральных желез белковые компоненты не участвуют в патогенезе астенозооспермии. Таким образом, основными регуляторами подвижности сперматозоидов могут оказаться компоненты секрета простаты и придатков яичек. С другой стороны, в работах Zhao et al. и Martinez-Heredia et al. семеногелин в повышенном количестве встречался в образцах спермы, полученных у пациентов с астенозооспермией [2, 3]. Была отмечена более высокая концентрация эпидидимального секреторного белка E1 и эпидидимального секреторного белка E4 при астенозооспермии [41]. Это указывает на возможную связь между астенозооспермией и нарушением эпидидимального созревания сперматозоидов. Кроме того, было обнаружено, что некоторые белки, секретируемые простатой, такие как альфа-2-макроглобулин, кластерин, дипептидилпептидаза-IV, ALDOA и GAPDH, имеют сниженную экспрессию в семенной плазме при астенозооспермии [13]. Большинство белков с аномальной экспрессией в работе Wang et al. имеют простатическое происхождение [15]. Было показано, что в экзосомах, изолированных из эякулята у пациентов с тяжелой астенозооспермией, существенно повышено содержание гликоделина, который в норме препятствует преждевременной капацитации [42]. Функциональные нарушения предстательной железы могут играть значимую роль в патогенезе астенозооспермии. Есть основания считать, что белковые компоненты секрета предстательной железы и придатков яичек являются одними из ключевых посттестикулярных регуляторов функции сперматозоидов.
Сообщалось, что простасомы могут сливаться со сперматозоидами человека, передавая им компоненты, обеспечивающие подвижность и предотвращающие преждевременную акросомальную реакцию [43]. Например, наблюдался перенос в сперматозоиды дипептидилпептидазы-IV, которая является белком, связанным с простасомами [44]. Кластерин, вероятно, тоже является маркером плохого качества сперматозоидов, так как его содержание повышено не только в сперматозоидах с плохой подвижностью, но и в простасомах и семенной плазме у мужчин с астенозооспермией [7, 45]. Не исключено, что избыток кластерина в сперматозоидах является результатом переноса молекул кластерина из экзосом. Каким образом влияют на качество сперматозоидов другие простасомные белки, такие как ALDOA и GAPDH, пока неизвестно.
Иммуноцитохимические исследования демонстрировали повышенное содержание кластерина в сперматозоидах при астенозооспермии, а при протеомном анализе выявлялись предшественники этого белка [2]. Более ранние исследования, основанные на простых лабораторных методиках, давали похожие результаты [46].
Протеомные маркеры оксидативного стресса
Активные формы кислорода могут повреждать сперматозоиды посредством различных механизмов. Оксидативный стресс сперматозоидов встречается часто и может наблюдаться у двух третей мужчин из бесплодных пар [47]. Agarwal et al. представили данные, согласно которым высокая концентрация активных форм кислорода может быть независимым маркером мужского фактора бесплодия [48]. Было зафиксировано повышение уровня активных форм кислорода в 3,3 раза в семенной жидкости пациентов с астенозооспермией [15]. Анализ протеома эякулята может помочь определить источник образования этих соединений. Одним из потенциальных источников является инфицирование генитального тракта микроорганизмами [49]. Интелектин-1 является антимикробным белком, синтез которого индуцируется инфекцией, а его гиперэкспрессия в семенной плазме при астенозооспермии может указывать на инфекцию половых желез [50]. В экспериментальной работе на клеточной культуре эндотелиоцитов было продемонстрировано, что ишемия и оксидативный стресс приводят к усилению экспрессии интелектина-1, который в этой ситуации не только является маркером, но и играет физиологическую роль, подавляя апоптоз и стимулируя ангиогенез [51]. Употребление алкоголя также может привести к оксидативному стрессу сперматозоидов. Было обнаружено высокое содержание алкоголь-дегидрогеназы, ключевого фермента, отвечающего за метаболизм этанола в человеческом организме, в семенной плазме у пациентов с астенозооспермией [15]. Злоупотребление спиртными напитками приводит к повышению оксидативного стресса тестикулярной ткани, поскольку этанол провоцирует образование активных форм кислорода [52]. Эти данные предполагают наличие связи между употреблением алкоголя и астенозооспермией. Еще одним фактором, провоцирующим оксидативный стресс, является контакт с тяжелыми металлами, такими как свинец. Соединения тяжелых металлов индуцируют экспрессию дегидратазы дельта-аминолевуленовой кислоты (ALAD) и ухудшают показатели спермограммы [53]. ALAD катализирует второй этап синтеза гема; ее присутствие в сперме было продемонстрировано в одном из протеомных исследований [12]. Источником ALAD в эякуляте может быть кровь при условии, что соединения свинца и других тяжелых металлов повреждают гематотестикулярный барьер. Так или иначе, оксидативный стресс сперматозоидов является следствием очень многих патологических воздействий на ткань яичка.
С другой стороны, присутствие активных форм кислорода в сперме может быть результатом нарушения функции антиоксидантных систем мужской репродуктивной системы [47]. Белок DJ-1 способен уменьшать проявления оксидативного стресса, вызванного различными поллютантами в окружающей среде, в том числе эндокринными дизраптерами [54]. Было продемонстрировано его протективное влияние в отношении клеток нервной системы, в которых он снижал степень оксидативного стресса и препятствовал их гибели [55]. У крыс SP221 и CAP1 являются одними из основных белков, связанных с бесплодием у самцов, которые подверглись воздействию токсичных для сперматозоидов веществ, таких как орнидазол и эпихлоргидрин [56]. Источниками DJ-1 в семенной плазме являются яички, придатки яичек и простата [13, 57, 58]. В одной из работ уровень DJ-1 в эякуляте у мужчин с астенозооспермией был значительно ниже, чем в эякуляте здоровых доноров [15]. Это позволяет предположить отрицательную регуляцию экспрессии белка DJ-1, которая способна привести к усилению оксидативного стресса сперматозоидов, а значит, к уменьшению их жизнеспособности и подвижности.
В семенной плазме пациентов с астенозооспермией Wang et al. обнаружили 101 белок с дифференциальной экспрессией [15]. Эти белки являются элементами посттестикулярной регуляции подвижности сперматозоидов и вырабатываются преимущественно предстательной железой и придатками яичек. Кроме того, в патофизиологии астенозооспермии участвуют инфекционные и средовые факторы.
Семенная плазма содержит секреты яичек, придатков яичек, простаты, семенных пузырьков и бульбоуретральных желез. При проведении исследования протеома семенной плазмы важно иметь в виду, что изменение концентрации белка в семенной плазме может зависеть не только от изменения его экспрессии, но также и от разбавления его путем изменения той или иной составляющей. Если сократительная способность семенных пузырьков затруднена из-за изменений в гладкомышечных клетках, которые могут возникнуть из-за снижения уровня тестостерона, относительный вклад простатических, тестикулярных, эпидидимальных и белков бульбоуретральных желез увеличится, но не потому, что произошло истинное увеличение уровня экспрессии. Понимание этого эффекта важно при интерпретации результатов протеомических исследований.
Заключение
В этом обзоре мы рассмотрели данные исследований, которые продемонстрировали протеом семенной плазмы мужчин с астенозооспермией и оценивали профиль белков, оказывающих влияние на бесплодие. Исследования, собранные в этой работе, внесли бы существенный вклад в имеющееся в настоящее время ограниченное понимание о молекулярном механизме, лежащем в основе подвижности сперматозоидов. Существует необходимость в увеличении количества таких исследований, чтобы сформировать единое мнение о конкретных белках, влияющих на подвижность сперматозоидов. В конечном итоге эти результаты будут способствовать разработке новых диагностических и прогностических маркеров мужского бесплодия.