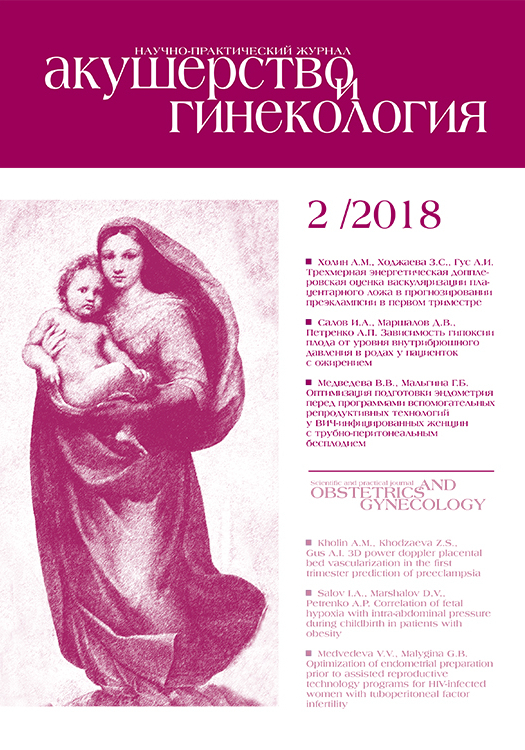Исследования, проведенные с момента открытия пролактина, относительно его роли в организме человека показали, что он является одним из самых универсальных и полифункциональных гормонов гипофиза. Рецепторы пролактина обнаруживаются практически во всех органах и тканях, что подтверждает широкий спектр его биологических действий [1]. Многообразие биологических эффектов пролактина впервые было классифицировано группой Paul Kelly на шесть основных разделов: регуляция баланса воды и электролитов; рост и развитие; регуляция функции эндокринной системы и метаболизма, регуляция функций мозга и поведения; регуляция репродуктивной функции; иммунная регуляция и защита [2]. Если принять за главное природное предназначение пролактина – реализацию репродуктивной функции (овуляция, поддержание функции желтого тела, метаболические изменения в материнском организме, обеспечивающие адаптацию к беременности и лактации), то оказывается, что более 300 плейотропных эффектов пролактина, открытых к настоящему времени, в совокупности направлены именно на реализацию этого предназначения [3–7]. Доказано, что для обеспечения нормального течения тех или иных биологических процессов, отвечающих за репродуктивную функцию женщины, необходимы разные концентрации этого гормона. Так, в фолликулярную фазу в нормальных концентрациях пролактин наряду с ФСГ и ЛГ синхронизирует созревание фолликулов и овуляцию, в лютеиновую фазу – поддерживает существование желтого тела и синтез прогестерона. И совершенно очевидно, что гиперпролактинемия в эти периоды, будет представлять собой патологическое состояние с неблагоприятными последствиями в виде ановуляции, недостаточности лютеиновой фазы, ранних потерь беременности. Однако во время нормально развивающейся беременности и лактации гиперпролактинемия физиологически необходима, с одной стороны, для подавления фертильности, иррациональной в этот период, с другой – для изменения метаболических процессов в организме матери с тем, чтобы максимальное количество энергетического и пластического материала поступало на обеспечение потребностей плода [3]. С позиций адаптивной роли пролактина в процессах репродукции крайне важно своевременное выявление именно патологической гиперпролактинемии и недопущение гипопролактинемии при проведении лечебных мероприятий. Снижение уровня пролактина ниже физиологических значений повлечет за собой сходные нарушения фертильности.
Роль гиперпролактинемии в патогенезе репродуктивных нарушений у женщин
Не вызывает сомнений, что высокий уровень циркулирующего пролактина как при физиологических (беременность и лактация), так и при патологических состояниях приводит к нарушению овуляции и бесплодию. Предполагается, что гиперпролактинемия вызывает ингибирование пульсаторной секреции гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) в гипоталамусе, что сопровождается снижением секреции гонадотропых гормонов (ФСГ и ЛГ) в гипофизе с последующим нарушением функции яичников. Однако до настоящего времени не расшифрованы точные нейроэндокринные механизмы реализации ингибирующего влияния пролактина на нейроны гипоталамуса, продуцирующие ГнРГ. Считается, что пролактин не может напрямую оказывать супрессивный эффект на ГнРГ-продуцирующие нейроны, поскольку в них не обнаруживаются рецепторов пролактина. Напротив, выявлена высокая экспрессия рецепторов пролактина в других нейронах гипоталамуса, продуцирующих специфический белок – кисспептин [8]. Выявлено две популяции киссептин-продуцирующих нейронов. Локализованные в ростральной перивентрикулярной области третьего желудочка, киссептин-продуцирующие нейроны играют важную роль в обеспечении овуляции путем активации ГнРГ-продуцирующих нейронов [9]. Киссептин-продуцирующие нейроны аркуатного ядра предположительно участвуют в регуляции базальной пульсаторной секреции ГнРГ [10]. Вызванное в эксперименте снижение экспрессии кисспептина в кисспептин-продуцирующих нейронах приводит к полной потере способности этих нейронов активировать секрецию ГнРГ. В исследованиях, проведенных у лактирующих мышей, было обнаружено снижение экспрессии ГнРГ и кисспептина в гипоталамусе, что подтверждает роль киспептина в патогенезе лактационной ановуляци, индуцированной гиперпролактинемией [11, 12]. В других экспериментах было показано, что подавление продукции ГнРГ и экспрессии мРНК кисспептина в гипоталамусе, сопровождавшиеся нарушением овуляции у самок мышей, вызванные хронической гиперпролактинемией, подвергались обратному развитию на фоне введения экзогенного кисспептина [13]. В настоящее время кисспептин считается главным стимулятором ГнРГ-продуцирующих нейронов, а киссептин-продуцирующие нейроны расцениваются как наиболее вероятное промежуточное звено, через которое реализуется ингибирующее действие гиперпролактинемии на секрецию ГнРГ и ось гипоталамус-гипофиз-яичники в целом [3, 14–16]. Общепризнанно, что гиперпролактинемия является распространенной этиологической причиной гипогонадотропного гипогонадизма и ановуляторного бесплодия у женщин [17, 18]. Однако помимо индуцированного гиперпролактинемией ингибирования ГнРГ с обоюдным снижением ЛГ и ФСГ предполагается существование других механизмов развития ановуляторного бесплодия у женщин, обусловленных пролактином. В этой связи представляет интерес обнаружение в яичниках рецепторов к кисспептину и рецепторов пролактина, физиологическая роль которых в локальной овариальной регуляции изучается [19]. Сложное влияние пролактина на функцию яичников обусловлено существованием как минимум 7 изоформ рецепторов пролактина (длинной и нескольких коротких), ответственных за разные биологические эффекты гормона. Предполагается, что активация коротких изоформ рецепторов пролактина может ингибировать функции, реализующиеся через длинный рецептор пролактина. В исследованиях было выявлено изменение экспрессии тех или иных изоформ рецепторов пролактина в яичниках в процессе полового созревания, беременности и лактации [20–22]. Считается, что совместная экспрессия разных изоформ рецепторов пролактина является необходимым условием для нормального физиологического развития и функционирования фолликулярного аппарата яичника. В яичнике доминирует длинная изоформа рецепоторов пролактина. Предполагается, что мутация длинной изоформы рецепторов пролактина и передача сигнала пролактина (даже при нормальной его концентрации) исключительно через короткие изоформы его рецепоторов отрицательно влияет на выживаемость фолликулов и может стать причиной первичной овариальной недостаточности [23]. В норме рецепторы пролактина в яичниках экспрессируются в значительном количестве в лютеиновую фазу менструального цикла. При этом пролактин, наряду с ЛГ, действует как фактор, обеспечивающий выживаемость клеток гранулезы, поддерживает стероидогенез и синтез прогестерона в желтом теле. В ранний период беременности пролактин наряду с хорионическим гонадотропином обеспечивает поддержание функции желтого тела [20]. Если небеременная женщина имеет аномально высокий уровень пролактина, это может вызвать репродуктивные нарушения, обусловленные недостаточностью лютеиновой фазы. Известно, что при умеренном повышении пролактина (речь идет о значениях, не превышающих 1000 mU/L) может сохраняться не только регулярный менструальный цикл, но и регулярная овуляция, однако в условиях супрафизиологического повышения пролактина желтое тело не будет производить достаточного количества прогестерона, которое могло бы обеспечить адекватную подготовку эндометрия к имплантации эмбриона. В такой ситуации умеренная гиперпролактинемией может стать причиной ранних потерь беременности в 10–15% случаев [24]. Таким образом, даже минимальное повышение уровня пролактина может стать клинически значимым и спровоцировать нарушения репродуктивной функции.
Клинические проявления гиперпролактинемии у женщин
Синдром гиперпролактинемии – это симптомокомплекс, возникающий на фоне стойкого избыточного содержания пролактина в сыворотке крови. Наиболее характерным проявлением гиперпролактинемии у женщин является нарушение функции репродуктивной системы: галакторея, нарушения менструального цикла (аменорея, олиго-опсоменорея, ановуляторные циклы, недостаточность лютеиновой фазы), бесплодие, снижение полового влечения, фригидность [25, 26]. Какими будут клинические проявления гиперпролактинемии в каждом конкретном случае, зависит от ее причин, которые определяют степень и длительность повышения уровня пролактина. В норме уровень пролактина у женщин не превышает 550 мЕд/л (25 нг/л). Повышение концентрации пролактина в сыворотке крови до 2 000 мЕд/л (100 нг/дл) не характерно для пролактином. Чаще выявляется при физиологической гиперпролактинемии, либо при других причинах патологической гиперпролактинемии (лекарства, гипотиреоз и др.), в том числе и при идиопатической ее форме [27, 28]. Но в то же время у 20% больных с микропролактиномами может наблюдаться умеренное повышение пролактина. В большинстве случаев микропролактиномы ассоциированы с уровнем пролактина более 5 000 мЕд/л (200–250 нг/дл), а макропролактиномы – с уровнем пролактина более 10 000 мЕд/л (500 нг/дл) [25]. Как уже отмечалось, клинические проявления гиперпролактинемии зависят от уровня пролактина, что определяет степень подавления ЛГ и ФСГ и в конечном счете концентрации эстрогенов и прогестерона. Так, главным условием для инициации и персистенции галактореи, индуцированной гиперпролактинемией, является достаточный уровень эстрогенов, подготавливающих молочную железу к лактации. При гипоэстронегии галакторея не возникает. Более того, прогрессирующая гипоэстрогения на фоне аномально высоких значений пролактина может стать причиной прекращения присутствовавшей ранее галактореи. При умеренной гиперпролактинемии с сохранением физиологических или незначительно сниженных уровней эстрогенов возможно развитие дисменореи, предменструального синдрома, эндометриоза, ановуляции, бесплодия, угрожающего или привычного аборта, овуляторных или ановуляторных аномальных маточных кровотечений. При незначительном повышении уровня пролактина клинические проявления могут отсутствовать и гиперпролактинемия может быть выявлена при обращении по поводу бесплодия в отсутствии других жалоб [25, 29, 30]. При существенном повышении пролактина с развитием гипоэстрогении наблюдается нерегулярный менструальный цикл, аменорея (с положительной реакцией или с отсутствием реакции на прогестерон). При длительно существующей аномально высокой гиперпролактинемии возможны инволютивные изменения в матке и яичниках. Таким образом, при гиперпролактинемии могут развиваться любые варианты нарушений менструальной функции: от аномальных маточных кровотечений до аменореи с инволютивными изменениями в матке и яичниках.
Эпидемиология гиперпролактинемии
Важные данные, касающиеся эпидемиологии гиперпролактинемией, были получены в популяционном ретроспективном исследовании PROLEARS (The Prolactin Epidemiology, Audit, and Research Study), которое проводилось в большой группе населения (400 000 человек) и захватывало период с 1993 по 2013 год (20 лет). В исследовании учитывались только пациенты с уровнем пролактина, превышающим 1000 mU/L (47,2 ng/ml), а следовательно, могли остаться неучтенными случаи клинически значимой гиперпролактинемией с менее выраженными подъемами пролактина. В общей сложности определение пролактина было проведено 32 289 пациентам, из которых у 4% (1301 человек) была констатирована гиперпролактинемия, не связанная с беременностью. Из них в 25,6% случаев были выявлены гипофизарные расстройства, в 45,9% наблюдалась лекарственная гиперпролактинемия, в 7,5%, определялся феномен макропролактинемии, в 6,1% повышение пролактина было обусловлено гипотиреозом, в 15,0% случаев отмечена идиопатическая гиперпролактинемия. За 20 лет распространенность гиперпролактинемии увеличилась с 22 до 232 случаев на 100 000 населения. Одной из причин этого феномена было признано увеличение в 3 раза частоты гиперпролактинемии, индуцированной приемом психотропных препаратов. Исследование PROLEARS показало, что распространенность гиперпролактинемии среди женщин в 5 раз выше, чем в общей популяции. Заболеваемость гиперпролактинемией у женщин в возрасте до 55 лет в 3,5 раза выше, чем у мужчин. Наиболее часто гиперпролактинемия диагностировалась у женщин в возрасте 25–44 лет [31]. Результаты других исследований также говорят о том, что распространенность гиперпролактинемии варьирует в разных популяциях женщин: не превышает 1,2–4,1% в общей популяции, но в то же время может достигать 7,9% среди пациенток с нарушениями менструального цикла, 15,7–17% – среди женщин, страдающих бесплодием и 30% – среди женщин, получающих оральные контрацептивы [32, 33]. Еще более высокая частота выявления повышенных значений пролактина наблюдаются среди женщин с наличием специфических симптомов гиперпролактинемии. Так, у женщин с аменореей она составляет 9%, у женщин с галактореей – 25%, у женщин с бесплодием – 16–30% и среди женщин с аменореей и галактореей достигает 70% [34]. Гиперпролактинемия отмечается в 25–30% случаев у одного или обоих партнеров при бесплодном браке [25]. В ряде работ изучалась зависимость частоты возникновения гиперпролактинемии и вариантов ее клинического течения от возраста пациенток. Так, в одном из исследований, включавшем 1704 женщин с различными нарушениями менструального цикла, все пациентки по возрасту были разделены на две группы: 1-я группа (от 11 до 20 лет); 2-я группа (от 21 до 30 лет). Среди всех обследованных женщин гиперпролактинемия констатирована в 6,4% случаев (2,5 и 12% соответственно). Среди пациенток с первичной аменореей гиперпролактинемия выявлена у 0,4% (0,5 и 0%), со вторичной аменореей – у 9,66% (5,5 и 13,8% ), с аномальными маточными кровотечениями (АМК) – у 5% (9,4 и 2,6%), с олигоменореей – у 2,1% (0 и 3,8% ), с олигоменореей и СПКЯ – у 2,8% (8,8 и 1,9%). Анализ причин гиперпролактинемии показал, что у женщин со вторичной аменореей: пролактиномы чаще встречались во 2-й группе (47,5%), чем в 1-й (12,5%). У пациенток с АМК пролактиномы чаще встречались в 1-й группе (9%), чем во 2-й (4,5%). Таким образом, частота, клинические проявления и причины гиперпролактинемии варьировали в зависимости от возраста. Во-первых, показано, что среди причин первичной аменореи в возрасте 11–20 лет гиперпролактинемия составляет 0,5%. Во-вторых, выявлена высокая частота пролактином (9%) у пациенток с АМК в возрасте 11–20 лет. Это указывает на необходимость определения пролактина на начальном этапе обследования этой категории пациенток, а при выявлении гиперпролактинемии – проведения МРТ гипофиза для исключения пролактиномы. В-третьих, в противоположность устойчивой ассоциации гиперпролактинемии с олиго- и аменореей доказано, что повышение пролактина у 5% женщин приводит к АМК [32, 35, 36]. Таким образом, высокая распространенность гиперпролактинемии среди женщин с репродуктивными нарушениями, достигающая 7,9% суммарно при всех нарушениях менструального цикла, 9% – при аменорее, 5% – при АМК, 30% – у пациенток с бесплодием, диктует необходимость включения определения уровня пролактина во все алгоритмы диагностики бесплодия и любых нарушений менструального цикла.
Диагностика гиперпролактинемии
Проблема гиперпролактинемии традиционно считается эндокринологической, что нашло отражение и в шифре заболевания по МКБ-10 (E22.1) и в клинических рекомендациях по диагностике и лечению этого синдрома, которые также традиционно разрабатываются и публикуются эндокринологическими ассоциациями. Однако основными клиническими проявлениями патологической гиперпролактинемии у женщин являются различные нарушения менструальной функции и фертильности, и с этими проблемами женщины обращаются в первую очередь к акушеру-гинекологу [37]. Поэтому многие российские и международные клинические рекомендации, сфокусированные на проблеме нарушения менструальной функции, включают в диагностические алгоритмы определение пролактина [29, 30, 38–40]. В Российской Федерации в соответствии со стандартами оказания специализированной медицинской помощи при гинекологических заболеваниях (статья 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) определение уровня пролактина в сыворотки крови рекомендуется: при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (приказ N 556н от 30 октября 2012 года); при дисфункции яичников (приказ N 760н от 9 ноября 2012 года); при олиго- и аменорее (приказ N 1272н от 20 декабря 2012 года), при дисменорее у детей (приказ N 1510н от 24 декабря 2012 года), при олиго- и аменорее у несовершеннолетних (приказ № 1075н от 20 декабря 2012 года); при маточных кровотечениях пубертатного периода (приказ N 1426н от 24 декабря 2012 года). По непонятным причинам определение концентрации пролактина в сыворотке крови не было включено в стандарт специализированной медицинской помощи женщинам с аномальными кровотечениями (маточные и влагалищные) различного генеза (приказ № 1473н от 24 декабря 2012 г.).
Для диагностики гиперпролактинемии большинство российских экспертов рекомендуют как минимум двукратное определение уровня пролактина для исключения ложноположительных результатов. Многократное измерение уровня пролактина (ритм секреции) и проведение различных медикаментозных проб не имеет преимуществ перед измерением базального пролактина [26]. Физиологические состояния, вызывающие повышение пролактина (за исключением беременности и лактации), не сопровождаются хронической гиперпролактинемией и могут быть исключены при повторных исследованиях уровня пролактина [34]. При подтверждении персистирующей гиперпролактинемии в первую очередь необходимо исключить лекарственно индуцированное повышение пролактина, поскольку недавно опубликованные популяционные исследования показали трехкратное увеличение частоты гиперпролактинемии вследствие приема психотропных препаратов [31, 41]. При подозрении на фармакологическую гиперпролактинемию рекомендуется отмена препарата (либо замена на альтернативное средство, не вызывающее повышение пролактина) c повторным определением уровня пролактина через 72 часа. Вопрос о возможности отмены или замены препаратов требует обязательной консультации профильных специалистов [31, 41].
В процессе дифференциального диагноза также необходимо исключить соматические, эндокринные, аутоиммунные и другие заболевания, сопровождающиеся повышением пролактина и в первую очередь – гипотиреоз. Первичный некомпенсированный манифестный гипотиреоз сопровождается гиперпролактинемией в 40% случаев, субклинический – в 22%. Патогенез патологического повышения пролактина при многих состояниях неясен, тем не менее, гиперпролактинемия с разной частотой может наблюдаться при хроническом простатите, хронической болезни почек, особенно у пациентов с хронической почечной недостаточностью на гемодиализе, при алкогольном и неалкогольном циррозах печени, при недостаточности коры надпочечников и врожденной дисфункции коры надпочечников, при опухолях, продуцирующих эстрогены (апудомы, лимфомы, опухоли эндометрия), при акромегалии (аденомах гипофиза со смешанной секрецией гормона роста и пролактина), при эктопических опухолях, продуцирующих пролактин (почечноклеточный рак, гонадобластома, рак шейки матки, неходжкинская лимфома, колоректальный рак, тератома яичника и др.), при травмах грудной клетки (мастэктомия, торакотомия, herpes zoster и др.), при повреждениях спинного мозга (эпендиома, сирингомиелия и др.), при аутоимунных заболеваниях (антитела к пролактину обнаруживаются у 25,7% больных с идиопатической гиперпролактинемией) [34, 42]. При подтверждении хронической гиперпролактинемии, особенно при бессимптомном или малосимптомном течении, а в идеале – всегда на этапе диагностики, необходимо исключать макропролактинемию (состояние при котором доля биологически инертного макропролактина превышает 60% от общего содержания гормона в сыворотке крови). Исследование крови на макропролактин необходимо для решения ряда вопросов. Во-первых, назначать или нет терапию каберголином? Во-вторых, продолжать или нет поиск истинной причины репродуктивных нарушений? Поскольку бесплодие и/или нарушения менструального цикла могут быть обусловлены другими, отличными от гиперпролактинемии причинами. Пациенты с макропролактинемией без повышения уровня мономерного (биологически активного) пролактина и без клинических симптомов, характерных для гиперпролактинемии, не нуждаются в назначении агонистов дофамина [43, 44]. В связи с тем, что на долю пролактином приходится до 25% всех случаев патологической гиперпролактинемии, то после исключения других ее причин, независимо от степени повышения пролактина и наличия или отсутствия зрительных нарушений показано проведение МРТ гипофиза [25, 26]. После подтверждения причинно-следственной связи репродуктивных нарушений с гиперпролактинемией требуется лечение с целью достижения нормопролактинемии. Терапия каберголином (оригинальный препарат достинекс) назначается при любых значениях пролактина, превышающих верхнюю границу нормы, после исключения: макропролактинемии, физиологической и патологической гиперпролактинемии, вызванной соматическими и другими заболеваниями, требующими специфического лечения (например, гипотиреоз) [25]. В случаях клинически значимой идиопатической или лекарственной гиперпролактинемии с невозможностью отмены препарата, индуцирующего повышение пролактина, возможно назначение каберголина после консультации профильного специалиста. Более трети случаев патологической гиперпролактинемии приходится на долю нарушений функции эндокринных желез (включая пролактиномы). Это диктует необходимость проведения сложного дифференциального диагноза с эндокринными заболеваниями, нередко требующими назначения специфической гормональной терапии (пролактинома, акромегалия, гипотиреоз, врожденная дисфункция коры надпочечников, гиперкортицизм, ожирение и др.) или исключения ряда состояний, требующих специальных знаний (синдром пересеченной ножки, феномен Hook-эффекта и др.). В связи с этим в сложных диагностических случаях пациентки должны быть проконсультированы эндокринологом. При выявлении эндокринных нарушений лечение должно назначаться и контролироваться совместно с эндокринологом.