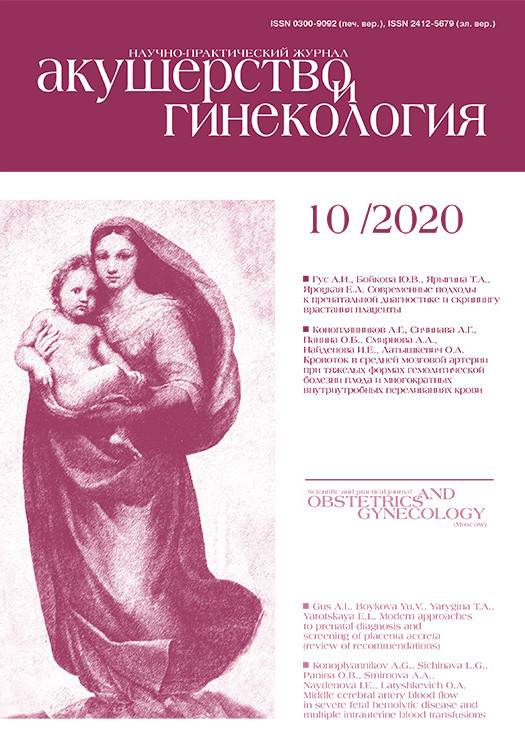Влияние витамина D на репродуктивное здоровье женщины является доказанным и неоспоримым фактом, тем более что в настоящее время холекальциферол трактуется как прегормон с аутокринным, паракринным и эндокринным действием. Многочисленные исследования in vitrо и in vivo подтвердили, что воздействие витамина D нельзя охарактеризовать однонаправленным механизмом, и каждый из биологических эффектов включает множественные пути реализации. Сложность многофакторной системы витамина D, включающей несколько регуляторных белков, с учетом последних данных о значимости генетических полиморфизмов генов свидетельствует о том, что оценка только циркулирующей формы витамина D не позволяет судить о полноте реализации всех биологических эффектов гормона в тканях организма [1, 2].
Все это диктует необходимость дальнейшего изучения влияния витамина D на репродуктивную систему женщины.
Под влиянием ультрафиолетовых лучей в коже образуется витамин D3 – холекальциферол. Связываясь с витамин D-связывающим белком, витамин D3 транспортируется в печень, где проходит первый этап гидроксилирования с помощью 25-гидроксилазы (ген CYP2R1) и превращение в основную циркулирующую форму витамина D – 25(ОН)D3, по уровню которой в крови судят об обеспеченности витамином D. Второй этап гидроксилирования с образованием биологически активной формы витамина D происходит в почках с участием фермента 1α-гидроксилазы (CYP27В1). Катаболизм гормона с образованием менее активных форм происходит под действием фермента 24-гидроксилазы (ген CYP24А1). Нужно подчеркнуть, что 1α-гидроксилаза и 24-гидроксилаза экспрессируются во многих тканях организма, что обеспечивает локальную аутокринную регуляцию системы витамина D [3].
Биологически активная форма витамина D связывается с рецептором (VDR) и взаимодействует с небольшими последовательностями ДНК, так называемыми элементами ответа генов-мишеней, регулируя их экспрессию. Элементы ответа находятся на многочисленных генах, регулирующих пролиферацию и дифференцировку клеток, апоптоз, ангиогенез, иммунные ответы и многое другое [4]. Помимо влияния витамина D на транскрипцию генов, существует и быстрый ответ на витамин D, предположительно реализующийся через мембранные рецепторы – мембранный VDR [5].
В настоящем обзоре мы представили последние данные о связи гормональной системы витамина D с нарушением репродуктивного здоровья женщины и попытались осветить механизмы этих нарушений. Большое внимание исследователей привлекает влияние витамина D на течение таких заболеваний молодых женщин, как поликистоз яичников (ПКЯ), пролиферативные заболевания матки – эндометриоз, миома матки, а также фертильность женщины [6–8].
Витамин D и поликистоз яичников
Участие витамина D в патогенезе ПКЯ не вызывает сомнений, и из всех доброкачественных заболеваний в гинекологии только он включен в перечень состояний, при которых рекомендуется скрининг на витамин D. Доказательная база, подтверждающая участие витамина D в механизмах развития этого заболевания, построена на большом количестве экспериментальных и клинических исследований [9]. По данным литературы, в целом два основных звена патогенеза ПКЯ регулируются уровнем витамина D: гормональные сдвиги, включающие инсулинорезистентность, и структурные изменения собственно в ткани яичника [10, 11].
Согласно исследованиям, именно снижение инсулинорезистентности является наиболее доказанной составляющей действия витамина D при ПКЯ. К механизмам нормализации инсулинорезистентности относят повышение экспрессии рецептора к инсулину за счет активности витамина D в промоторе гена инсулина и регуляцию содержания внутри- и внеклеточного кальция, что делает возможной реализацию инсулин-опосредованных реакций в периферических тканях [12, 13].
Другой важной составляющей эффекта витамина D при ПКЯ является нормализация овуляторной дисфункции. Так, метаанализ 9 исследований, включивший 502 пациентки с ПКЯ, показал, что прием витамина D сопровождается более высокой частотой доминантных фолликулов, что, несомненно, имеет особое значение у пациенток с ановуляторным бесплодием [14]. При иммуногистохимических исследованиях было установлено, что в основе нормализации гормонального фона у женщин с ПКЯ и дотацией витамина D лежат изменения уровня экспрессии рецепторов к фолликулостимулирующему (ФСГ) и антимюллерову гормону (АМГ), что является определяющим фактором в росте фолликула [11]. Ключевым моментом действия повышенного уровня АМГ в ткани яичника считают подавление ФСГ-опосредованного синтеза эстрадиола [15]. Клинические оценки взаимосвязи уровней витамина D и АМГ противоречивы. По данным Irani M. et al. [16], значительное снижение патологически повышенного при ПКЯ уровня АМГ на фоне приема витамина D приводит не только к увеличению чувствительности к ФСГ, но и снижению яичниковых андрогенов. Однако исследование Cappya H. et al. [17] не подтвердило такой связи. Другим важным фактором патогенеза ПКЯ является повышение в крови уровня конечных продуктов гликирования (Advanced glycation end-products – AGEs), представляющих собой гликированные белки и липиды с выраженным провоспалительным эффектом. Связываясь с клеточными рецепторами, эти молекулы играют важную роль в нарушении нормального фолликулогенеза. Естественным «антидотом» этих молекул в организме определен растворимый рецептор для продуктов гликирования (soluble receptor for advanced glycation end-products – sRAGE), блокирующий AGEs [18, 19]. Коррекция дефицита витамина D у пациенток с ПКЯ сопровождается значительным повышением уровня sRAGE [16]. Выраженный дефицит витамина D (менее 10 нг/мл) у пациенток с ПКЯ может рассматриваться как независимый фактор неэффективности стимуляции кломифена цитратом в данной когорте женщин [20]. Оценка результатов лечения ановуляторного бесплодия методом индукции овуляции при ПКЯ у 540 пациенток в зависимости от исходного витамин D-статуса показала снижение вероятности живорождения на 44% при уровне витамина D в крови менее 30 нг/мл, причем чем ниже был уровень витамина D, тем значимее была указанная связь [21]. В то же время данные о влиянии витамина D на эффективность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) до сих пор противоречивы, что во многом объясняется отсутствием крупномасштабных клинических исследований [9].
Витамин D и миома матки
В последние годы все большую доказательную базу получает антипролиферативный эффект витамина D при гинекологической патологии, прежде всего при миоме матки. Реализация этого эффекта определяется несколькими путями: регуляцией катенинового пути, подавлением экспрессии белков клеточной пролиферации и стимуляцией апоптоза [22, 23]. Снижение активности регуляторного белка BCL-2, подавляющего апоптоз в клеточных системах, и циклинзависимой киназы, регулирующей активность клеточного цикла, а также экспрессии катехол-о-метилтрансферазы относят к важным механизмам антипролиферативного эффекта витамина D. Одним из аспектов влияния на рост миоматозного узла является способность витамина D воздействовать на отложение внеклеточного матрикса и процесс фиброза в лейомиоме путем снижения активности металлопротеиназ, экспрессии коллагена типа 1, фибронектина и активатора плазминогена, а также подавления активности трансформирующего фактора роста, участвующего в накоплении белков внеклеточного матрикса [24].
В эксперименте in vitro и в клинических исследованиях итогом эффектов витамина D является уменьшение размеров миоматозного узла [25]. Экспериментальные данные на овариэктомированных мышах с имплантацией внутрибрюшинно фрагментов лейомиомы человека подтвердили дозозависимый эффект уменьшения размера миоматозного узла при длительном, в течение 60 дней, курсе терапии витамином [26]. Клиническое исследование на небольшой когорте пациенток (57 женщин) в течение 3 месяцев также демонстрирует возможность ингибирования роста миоматозного узла [27]. Другая работа, включавшая 154 женщины, показала четкую связь между повышением уровня витамина D и снижением общего объема всех миоматозных узлов матки. При этом анализ этнической принадлежности играл большую роль: наилучшие результаты оказались у чернокожих пациенток, в то время как у белых женщин связь не достигла величины статистической значимости [28].
Крупномасштабное исследование с наблюдением за 1036 женщинами в возрасте от 35 до 49 лет показало, что уровень витамина D более 20 нг/мл ассоциирован со снижением частоты миомы матки на 32%, диагностированной методом ультразвукового скрининга [29]. Выявленная закономерность была значимой и для чернокожих, и для белых женщин. Данные эпидемиологического исследования National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 2001–2006), охватившего 3590 женщин в возрасте от 20 до 54 лет, также подтвердили связь недостаточного уровня витамина D и риска миомы матки у белых женщин [30].
Возможность витамина D снижать в ткани миомы экспрессию эстрогеновых и прогестероновых рецепторов [31] особенно ярко была продемонстрирована при совместном применении улипристала ацетата с витамином D в отличие от монотерапии только улипристала ацетатом в виде выраженного ингибирования роста клеток лейомиомы [32]. Авторы делают вывод о целесообразности такой комбинированной терапии миомы матки и возможности длительного непрерывного применения витамина D у пациенток в последующем.
Витамин D и ЭКО
Вызывают интерес данные, демонстрирующие влияние витамина D на состояние эндометрия [33].
В одном из исследований с поставленной целью изучить эффективность ЭКО с интраплазматической инъекцией сперматозоидов (ИКСИ) у 252 пациенток в зависимости от обеспеченности витамином, обратили внимание на прямую связь «тонкого» эндометрия и низкого уровня витамина D, что, безусловно, служит доказательством регулирующего влияния витамина D на состояние эндометрия [34]. По другим данным, дефицит витамина D не только снижает эффективность ЭКО, но определяет эффективность внутриматочной инсеминации (ВМИ). Анализ результатов ВМИ у женщин старше 40 лет показал, что дефицит гормона менее 20 нг/мл статистически значимо снижает частоту наступления беременности по сравнению с пациентками, имеющими уровень витамина D более 20 нг/мл [35]. К непосредственным механизмам влияния витамина D на эндометрий относят регулирование экспрессии гена HOXA10 и остеопонтина, прогестеронзависимого лиганда молекул адгезии интегринов, определяющих нормальную имплантацию и децидуализацию эндометрия [33, 36]. Влияние на эндометрий может происходить и за счет снижения окислительного стресса. Так, анализ данных 60 женщин c гиперплазией эндометрия, подтвержденной морфологически, показал значительное снижение уровня С-реактивного белка и повышение показателя общей антиоксидантной способности в плазме у пациенток, получавших 50 000 МЕ витамина D каждые 2 недели в течение 12 недель по сравнению с группой плацебо [37].
Витамин D и эндометриоз
Все перечисленные эффекты защитного действия витамина D наиболее полно реализуются при другом распространенном хроническом заболевании – эндометриозе. Крайне негативное влияние на здоровье женщины в целом и качество жизни позволяет рассматривать эндометриоз как одну из самых актуальных проблем современной медицины. Несмотря на существующие возможности лечения как медикаментозного, так и хирургического, добиться выздоровления женщин невозможно. Главная проблема эндометриоза заключается в хроническом пожизненном течении и отсутствии безопасных препаратов для длительного многолетнего применения. Отсюда интерес к витамину D c его противовоспалительными, антипролиферативными, антиангиогенными эффектами, коррекция дефицита которого может оказывать профилактический и лечебный эффект в когорте лиц высокого риска развития эндометриоза [38].
Доказательством этого факта может явиться крупное проспективное когортное исследование Nurses Health Study II, охватившее 70 556 женщин в США. Наблюдение проводилось в течение 14 лет, и за весь период было выявлено 1385 случаев лапароскопически подтвержденного эндометриоза. На основании оценки уровня потребления молочных продуктов с помощью опросника проводился расчет прогнозируемого уровня витамина D. Было показано, что снижение риска эндометриоза связано с более высоким потреблением молочных продуктов (р=0,03) и прогнозируемым повышением в связи с этим уровня витамина D (р=0,004) [39]. Другое исследование с определением уровня витамина D не подтверждает очевидной связи циркулирующей формы витамина D с эндометриозом, авторы не обнаружили различий в содержании 25(ОН) D3 в сыворотке крови пациенток с эндометриозом (25,7±2,1 нг/мл; n=46) и здоровых женщин (22,6±2,0 нг/мл; n=33; p=0,31), демонстрируя при этом выраженную экспрессию VDR и значительное повышение активности 1а-гидроксилазы в эндометрии больных по сравнению со здоровыми. Они предположили, что витамин D может влиять на местную активность иммунных клеток и цитокинов, которые, как считается, играют важную патогенную роль в развитии и поддержании эндометриоза [40]. Метаанализ, включивший 9 исследований [41], четко продемонстрировал, что делать какие-либо выводы очень сложно. Это связано с выраженной гетерогенностью анализируемых выборок: их объемом, тяжестью течения и степенью распространенности эндометриоза, наличием сопутствующего бесплодия и других осложнений, разных регионов проживания пациенток, приемом различных гормональных препаратов. Оказалось, что чем больше объем проводимого исследования (более 100 женщин), тем выше гетерогенность и меньшая значимость связи уровня витамина D с эндометриозом, и, напротив, чем меньше выборка (менее 100 наблюдений), тем меньше гетерогенность и выше достоверность этой связи. Новый свет на патогенез заболевания пролили работы по изучению стволовых клеток эндометрия, играющих важную роль в физиологической регенерации эндометрия. Они принимают участие и в патогенезе развития эндометриоза: эктопический эндометрий характеризуется высокой активностью эндометриальных стволовых клеток, экспрессирующих транскрипционный фактор Oсt-4, являющийся маркером взрослых стволовых клеток [42].
Экспериментальные данные показали, что обработка витамина D эктопических и эутопических стромальных клеток приводит не только к снижению пролиферации во всех клеточных группах, но и снижению активности IL-6 и экспрессии Bcl-xL, белка, подавляющего апоптоз, и эндотелиального фактора роста (VEGF) [43]. VEGF, наравне с эстрадиолом, является ангиогенным фактором роста и способствует мобилизации эндотелиальных клеток-предшественников (ЭКП), участвующих в неоангиогенезе, абсолютно необходимом для роста и развития очагов эндометриоза [44]. При этом в эксперименте на мышах продемонстрирован не просто более высокий уровень ЭКП в периферической крови, но и наличие меченых эндотелиальных клеток костного мозга именно в очагах эндометриоза, а не в эутопном эндометрии. Применение ингибитора ангиогенеза привело к снижению уровня ЭКП и уменьшению очагов эндометриоза [45]. И все же иммуномодулирующие и противовоспалительные эффекты витамина D многими авторами рассматриваются как патогенетически обоснованные у пациенток с эндометриозом [46, 47].
Витамин D и заболевания молочных желез
Исследования последних лет показали, что не менее важную роль витамин D играет в развитии заболеваний молочных желез. История изучения витамина D в этом плане начиналась с эпидемиологических и клинических работ, демонстрирующих связь между степенью солнечной инсоляции или циркулирующей формы витамина D и раком молочных желез [48–51], а также взаимосвязи маммографической плотности молочных желез и уровнем витамина D в крови [52]. Ткань молочной железы экспрессирует VDR и основные регуляторные белки – 1α-гидроксилазу и 24-гидроксилазу, кодируемые генами CYP27B1 и CYP24A1. Локальное нарушение метаболизма витамина D лежит в основе патогенеза заболеваний молочных желез, включая рак. Данные крупного исследования, проведенного в Бразилии, с оценкой экспрессии VDR и основных регуляторных белков – CYP27В1, CYP24А1 в тканях молочной железы подтвердило важную роль нарушений системы витамина D в развитии патологии молочных желез. Были изучены 379 образцов доброкачественных поражений молочных желез, 539 образцов карцином (карцинома in situ – у 189, инвазивная карцинома – у 350) и 29 образцов ткани молочных желез здоровых женщин. Результаты показали, что нормальная ткань железы характеризуется высокой активностью системы витамина D: экспрессия VDR – 100%, CYP27В1 – 63,6% и экспрессия CYP24А1 – 29,6% [53]. При доброкачественных процессах наблюдалась аналогичная тенденция: сохранение высокой экспрессии VDR – 93,5% и CYP27В1 – 55,8%, в сочетании с низким уровнем экспрессии CYP24А1 – 19%. Развитие карциномы in situ сопровождалось значительным снижением экспрессии VDR до 47,3% с одновременным возрастанием CYP24А1 до 56%, что свидетельствует об увеличении катаболизма витамина D и резком падении активности системы витамина D в тканях молочных желез. При инвазивной карциноме к этим изменениям добавляется падение уровня экспрессии CYP27В1, ответственного за локальный синтез активной формы VD, а это доказательство глубокого тканевого дефицита гормона. Zhalehjoo N. и соавт. [54] подтвердили эти данные.
Таким образом, сохранение высокой активности гормональной системы витамина D при доброкачественных заболеваниях молочных желез позволяет предположить, что достаточный уровень витамина D будет эффективно выполнять свои функции и профилактировать прогрессирование заболевания и развитие рака молочных желез.
Наши собственные исследования подтверждают, что пациентки с наиболее распространенными формами доброкачественных заболеваний молочных желез в возрасте до 50 лет – диффузной мастопатией (ДФМ) и фиброаденомой (ФА) имеют низкую обеспеченность витамина D. Частота дефицита витамина D в крови (менее 20 нг/мл) при ДФМ составила 66,3%, при ФА – 52,4%, у здоровых женщин – 7,3%. Восстановление значений витамина D до 45 нг/мл у пациенток с ДФМ приводит к снижению маммографической плотности за счет снижения уровня пролиферации железистой ткани, что подтверждает высокую эффективность лечебного антипролиферативного эффекта витамина D [55].
Известно, что водный мицеллярный раствор холекальциферола («Аквадетрим») поступает в организм в готовой для всасывания форме, обеспечивает хорошую степень всасывания в тонком кишечнике с минимальной зависимостью от состава диеты, состояния печени и биосинтеза желчных кислот, чем выгодно отличается от масляных форм витамина D [56].
Препарат может быть рекомендован пациентам даже при наличии патологии желудочно-кишечного тракта (мальабсорбция, муковисцидоз, ферментативная недостаточность поджелудочной железы, холестаз и т.п.). Наряду с хорошо зарекомендовавшим себя на протяжении нескольких десятилетий водным раствором «Аквадетрим», появился «Аквадетрим» в форме растворимых таблеток – единственные таблетки витамина D в России, зарегистрированные как лекарственный препарат.
Витамин D и цервикальная интраэпителиальная неоплазия I степени
Огромный интерес представляют появившиеся данные о влиянии длительного приема витамина D на регрессию и метаболический статус пациентов с цервикальной интраэпителиальной неоплазией 1-й степени (CIN1). Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с наблюдением за 58 женщинами с диагнозом CIN1 [57], 29 из которых получали витамин D в течение 6 месяцев по 50 000 МЕ каждые 2 недели, другие 29 – не получали. Через 6 месяцев у 84,6% получавших витамин D наступила полная регрессия CIN1 против 54,6% среди не получавших. Кроме того, были отмечены позитивные метаболические эффекты витамина D – снижение инсулинорезистентности, повышение содержания оксида азота и антиоксидантной активности в плазме крови. Ранее выполненное экспериментальное исследование показало, что дозозависимая концентрация 1,25(OH)2D способна индуцировать остановку клеточного цикла на фазе G1 и уменьшить экспрессию онкогена рака шейки матки (HCCR-1) с одновременным увеличением экспрессии проапоптотического белка р21 [58]. По данным Громовой О.А. [59], витамин D-опосредованные противовирусные механизмы связаны с корректировкой врожденного иммунного ответа (интерфероны), повышением уровней кателицидина (LL-37) и дефенсина, а также активацией специфических противовирусных микроРНК.
Заключение
Таким образом, очевидно, что витамин D имеет большие перспективы в профилактике и лечении гинекологических заболеваний, но необходимы дальнейшие исследования эффективности применения этого витамина у женщин с различной патологией. Оценка генетических дефектов системы витамина D имеет не только исключительно научный интерес, но и большое практическое значение, позволяя выявить группы риска населения по формированию тканевого дефицита витамина D и прогнозировать недостаточный эффект проводимой заместительной терапии даже при достаточном уровне гормона в крови.