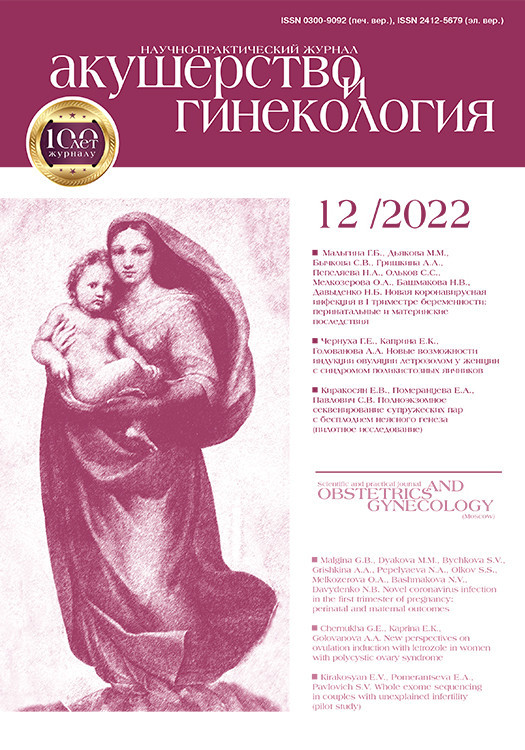Преэклампсия (ПЭ), являясь полиорганным и гетерогенным расстройством, продолжает оставаться предметом активного научного поиска вследствие весомого вклада в жизнеугрожающие осложнения во время беременности, а также краткосрочные и отдаленные отрицательные последствия на дальнейшее качество жизни женщины и ее ребенка. В настоящее время по своему неблагоприятному влиянию на здоровье матери и новорожденного ПЭ занимает ведущее место среди больших акушерских синдромов, осложняя 3–8% всех беременностей [1]. ПЭ ежегодно выявляется у 8,5 млн женщин и ответственна за 15% случаев преждевременных родов в мире [2]. Признание двух фенотипических вариантов ПЭ (ранней и поздней) способствовало лучшему пониманию патофизиологии течения и исходов беременности для матери и плода [4–6]. ПЭ с ранним началом чаще осложняется задержкой роста плода и проявляется более тяжелыми симптомами, по сравнению с ПЭ с поздним началом [7–9].
ПЭ является многофакторным заболеванием со сложным патогенезом, берущим свое начало в дисфункции материнских и плацентарных сосудов, что приводит в конечном итоге к неполноценному ремоделированию спиральных артерий, повреждению эндотелия, иммуннологическим нарушениям, дисбалансу про- и антиангиогенных факторов и различным метаболическим изменениям [10, 11].
Предметом многочисленных исследований является идентификация возможных прогностических маркеров ПЭ на ранних сроках беременности, особенно у женщин высокого риска. Особый интерес исследователей в последние годы сконцентрирован на изучении постгеномных изменений, а именно особенностей метаболомного профиля.
Маркеры-предикторы преэклампсии в клинической практике
В недавнем систематическом обзоре и метаанализе 92 исследований, включавшем более 25 млн беременных, оценивалась прогностическая точность клинических факторов риска развития ПЭ. Наиболее значимыми достоверными факторами риска являются: преэклампсия в анамнезе (относительный риск [ОР], 8,4; 95% доверительный интервал [ДИ] 7,1–9,9) и хроническая артериальная гипертензия (АГ) (ОР, 5,1; 95% ДИ 4,0–6,5). Также доказана роль других факторов: возраст матери старше 35 лет (ОР 1,2; 95% ДИ 1,1–1,3), хроническая болезнь почек (ОР 1,8; 95% ДИ 1,5–2,1), зачатие с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ОР 1,8; 95% ДИ 1,6–2,1), индекс массы тела (ИМТ) до беременности >30 кг/м2
(ОР 2,8; 95% ДИ 2,6–3,1) и сахарный диабет 1 типа (ОР 3,7; 95% ДИ, 3,1–4,3) [12].
Активные исследования последнего времени позволили выявить новые маркеры, такие как плацентарный фактор роста (PlGF) и растворимая fms-подобная тирозинкиназа 1 типа (sFlt-1) [13]. В исследовании, проведенном N. Hadker, после 20 недель беременности было определено оптимальное пороговое значение для соотношения sFlt-1/PlGF – 85:1, с расчетной чувствительностью 82% и специфичностью 95% [14]. Такой тест проводят для того, чтобы установить вероятность возникновения ПЭ еще задолго до клинических проявлений
В настоящее время во всем мире широко используется модель ранней оценки риска (между 11 и 14 неделями гестации) ПЭ и задержки роста плода [15]. Эта модель включает комбинированную оценку анамнеза, клинических характеристик матери (ИМТ и среднего артериального давления), биомаркеров материнской сыворотки (ассоциированный с беременностью белок А плазмы и PIGF), а также среднее значение пульсационного индекса в маточных артериях [15].
В 2016 г. была доказана эффективность данной модели в крупномасштабном проспективном исследовании, проведенном Фондом медицины плода, в которое вошло 35948 беременных в сроках 11–13 недель беременности. [16]. При частоте ложноположительных результатов 10% комбинированный скрининг предсказал 75% ранней и 47% поздней ПЭ. Точность комбинированного теста была подтверждена последующим многоцентровым проспективным исследованием, проведенным с использованием образцов от 8775 участников [17]. Тем не менее точность прогнозирования поздней ПЭ остается низкой, что подтверждает различный патогенез этих двух фенотипов заболевания. Таким образом, классический перечень исследований предлагает ограниченную информацию по критическим вопросам в области ПЭ, что указывает на необходимость создания более тонких и надежных биомаркеров для раннего прогнозирования данного заболевания [18].
Перспективы
Молекулярно-генетические исследования
Согласно многочисленным эпидемиологическим исследованиям, наследование ПЭ достигает 55–60%, при этом вклад матери составляет 30–35%, а вклад плода – 20%. Стоит отметить, что особенности генома большее значение имеют в развитии ранней ПЭ, а факторы окружающей среды в основном способствуют развитию поздней ПЭ [19]. Таким образом, объективная оценка значимости наследственности в развитии ПЭ затруднена ввиду вовлечения двух геномов (материнского и фетального) и гетерогенной природы заболевания.
Генетические изменения являются одной из основных причин [20], но точный молекулярный механизм, лежащий в основе ПЭ, остается неясным. С помощью полногеномного поиска ассоциаций (GWAS) было показано, что варианты материнской или фетальной последовательности, расположенные в некоторых генах или вблизи них, таких как FLT1 [20, 21], PLEKHG1 [22], APOL1 [23], ERAP2 [24], WNK1 и AKR1C3 [25], CYP2D6 и CYP2C9 [7], связаны с ПЭ.
В другом исследовании материнского генома с участием более 3000 пациенток было проанализировано более 1 млн однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП), однако ни один из выявленных ОНП не был значимо связан с ПЭ [26]. Одним из возможных объяснений является взаимодействие нескольких аллелей в развитии ПЭ.
В недавно опубликованном метаанализе был описан ряд ОНП в результате проведенного GWAS (rs1421085, rs259983, rs1918975, rs1458038, rs10774624, rs4769612), которые достоверно связаны с ПЭ. Более того, аллели FTO и T2D варианта rs1421085 ассоциировались с повышенным ИМТ и ожирением, а rs10774624 – с ранней ПЭ и более низкой массой плода при рождении [27]. В предыдущих исследованиях также сообщалось, что ОНП материнского генома (rs1421085, rs259983) связаны с повышением АД [27].
В исследовании 2021 г. аллели, несущие риск повышенного диастолического АД и ИМТ, были ассоциированы с повышенным риском ПЭ (ОШ 1,11 (95% ДИ 1,01–1,21), p=0,02 и ОШ 1,10 (95% ДИ 1,00–1,20), p=0,042 соответственно). В то же время аллели, ассоциированные с повышением уровня щелочной фосфатазы, обладали протективным эффектом (ОШ 0,89 (0,82–0,97), p=0,008). Важно отметить, что значимость наличия генетического локуса, ответственного за диастолическое АД, была более выражена в развитии ПЭ с ранним началом (ОШ 1,3 (1,08–1,56), p=0,005) [19].
Для научных и клинических целей в большинстве случаев достаточно данных, полученных в результате прочтения экзома, поскольку 85% всех мутаций, связанных с болезнями, – это мутации в экзоме. Секвенирование экзома при ПЭ может быть чрезвычайно полезным, поскольку позволяет более точно определить прогноз, а также провести коррекцию терапии. Таким образом, полноэкзомное секвенирование (WES) – эффективная альтернатива секвенированию генома, что может быть использовано в клинической практике. Так, при полноэкзомном секвенировании у 5 беременных с тяжелой ранней ПЭ было обнаружено, что вариант P15R в гене GOT1, известном как глутамат-оксалоацетаттрансаминаза, идентифицированный в исследовании, может привести к ПЭ, вызывая аномальный синтез глутамата или сероводорода. Кроме того, авторы показали, что аномальные метаболические или каталитические процессы аспартата вместе с нарушениями сокращения или расслабления сосудистой сети плаценты могут быть связаны с ПЭ. Это исследование подтверждает вклад генетического фактора, как потенциально этиологического, лежащего в основе молекулярных детерминант развития ПЭ [28].
Многомерные омиксные технологии
В большинстве случаев биомаркер относится к молекуле биологического происхождения, которая является измеримым индикатором молекулярных механизмов, участвующих в нормальных или патологических процессах, и потенциально может использоваться в диагностических или прогностических целях. Сфера омиксных технологий связана со способностью идентифицировать тысячи биологических молекул и устанавливать их взаимодействия с использованием достижений в области биоинформатики, статистики и высокопроизводительных методов анализа образцов. «Омики» способны суммировать до десятков тысяч образцов и включают геномику (анализ генома человека); транскриптомику (анализ транскриптов с генов путем анализа всех матричных РНК); протеомику (анализ конечных продуктов генов – белков); и метаболомику (анализ метаболитов, продуктов распада белков). Благодаря полноценной оценке состояния, полученной на разных уровнях омиксных технологий, можно получить комплексное представление о ПЭ.
Транскриптомные исследования при преэклампсии
Профилирование экспрессии генов дало некоторое представление о патогенезе ПЭ. Недавние исследования позволили успешно распознавать связанные с ПЭ транскрипты в крови, которые могут выступать в качестве потенциальных клинических диагностических маркеров [29]. При ПЭ, помимо генов, кодирующих белок, существуют специфическая экспрессия некодирующих микроРНК (миРНК) и длинных некодирующих РНК (днкРНК) [30]. Преимущество микроРНК перед мРНК заключается в том, что они короче, менее многообразны и, соответственно, их анализ более экономичен. Кроме того, микроРНК более стабильны, поэтому в будущем их можно использовать, как в качестве инструментов диагностики, так и в качестве терапевтических мишеней [31].
Известно также, что молекулы миРНК участвуют в физиологической регуляции основных процессов плацентации [32]. Было показано, что среди малых некодирующих РНК микроРНК непосредственно связаны с патогенезом ПЭ [33]. Например, микроРНК 34а отражает процессы ограничения инвазии трофобласта и последующей морфофункциональной несостоятельности спиральных артерий, при ее снижении усиливается инвазия трофобласта. Высокая экспрессия микроРНК 34а в ядрах и цитоплазме вневорсинчатого цитотрофобласта и эндотелии сосудов, свидетельствует в пользу нарушения инвазии и ангиогенеза в зоне плацентарной площадки [34]. miR-210 связана с гипоксическими путями и активируется в ответ на факторы, индуцируемые гипоксией [35]. miR-210 способствует ангиогенезу путем высвобождения IL-1α [36]. Другая микроРНК, тесно связанная с ангиогенезом и с ПЭ, представляет собой miR-26a, которая регулирует каскадный путь трансформирующего фактора роста бета и экспрессия которой при ПЭ подавляется [37].
При изучении роли периферических миРНК в середине II триместра в качестве биомаркеров ПЭ наибольшее значение было продемонстрировано в отношении миРНК-155-5r, которая подавляет экспрессию NO-синтазы и имеет центральную роль в патогенезе ПЭ [38]. Результаты исследования по профилированию внеклеточной РНК материнской крови в середине II триместра беременности способствовали прогнозированию поздней ПЭ с чувствительностью 75% и положительной прогностической ценностью 32,3% [39]. Результаты представленных исследований показали, что дисфункция экспрессии миРНК может играть значимую роль в развитии ПЭ [40].
В свою очередь, днкРНК UCA-1 способствуют миграции и пролиферации клеток, по-видимому, участвуя в инвазии трофобласта и ремоделировании маточных спиральных артерий. ДнкРНК, связанные с ПЭ, включают MEG3, HOTAIR, MALAT-1 и FLT1P1 [30]. Механизмы действий этих длинных некодирующих РНК заключаются в регуляции хроматического состояния (HOTAIR), регуляции экспрессии метастатического гена (MALAT1), супрессора опухоли (MEG3) и регулятора ангиогенеза (FLT1P1).
Основным достижением в этой области стало использование транскриптомики единичных клеток для анализа клеточной гетерогенности плаценты человека в норме и определения индивидуальных клеточно-специфических генных сигнатур [41]. Эта технология также позволила реконструировать линию дифференцировки нормальных трофобластов, а также обнаружить новые клетки в плаценте и идентифицировать специфические молекулярные изменения в плаценте пациенток с ПЭ. Интересно, что содержание транскрипционной сигнатуры единичных клеток вневорсинчатого трофобласта в материнской крови выше у пациенток с ранней ПЭ, по сравнению со здоровыми беременными женщинами [41].
В 2020 г. было проведено проспективное продольное исследование, оценивающее прогностическую значимость ранее выявленных сигнатур мРНК, ассоциированных с ПЭ. Как оказалось, средняя экспрессия нецелевой клеточной сигнатуры мРНК, состоящей из 16 генов, была значимо выше у пациенток с ранней ПЭ. Более того, это повышение отмечалось и в 28–32 недели, и в 22–28 недель в сравнении с группой контроля (p<0,05). Комбинация 4 генов из указанной сигнатуры, включающая днкРНК (экспрессируемый матерью импринтированный транскрипт гена Н19 (Н19), фибронектин 1 (FN1), класс V тубулина бета-6 (TUBB6) и рецептор формилового пептида 3 (FPR3)), обладала чувствительностью 0,85 (0,55–0,98) и специфичностью 0,92 (0,8–0,98) в прогнозировании ранней ПЭ на сроках 22–28 недель гестации. Более того, концентрации H19, FN1 и TUBB6 были повышена у пациенток, развивших раннюю ПЭ, уже в 11–17 недель беременности (p<0,05). Также авторы отмечают, что в 11–17 недель у пациенток, у которых была в дальнейшем диагностирована ранняя ПЭ, наблюдалось повышение экспрессии нескольких сигнатур единичных клеток плаценты, включающих сигнатуру вневорсинчатого трофобласта из 20 генов (p<0,05). К тому же применение комбинации 3 мРНК (MMP11, SLC6A2 и IL18BP) из сигнатуры вневорсинчатого трофобласта в прогнозировании ранней ПЭ на сроке в 11–17 недель беременности обладало чувствительностью 0,83 (0,52–0,98) и специфичностью 0,94 (0,79–0,99). Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что как общий анализ клеточного транскриптома, так и выявление мРНК, специфичных для плаценты, могут быть использованы для выявления пациенток с риском развития ранней ПЭ [42]. Тем не менее важно отметить, что размер выборки в группе пациенток с ПЭ был мал (13 женщин), что свидетельствует о необходимости дальнейших исследований с целью подтверждения полученных данных.
Несмотря на то, что был проведен ряд исследований для изучения связи между уровнями экспрессии микроРНК и ПЭ, все еще недостаточно доказательств в поддержку общего использования микроРНК в качестве функциональных биомаркеров, связанных с ПЭ.
Эпигенетические исследования
Эпигенетические изменения представляют собой обратимые изменения ДНК или гистонов клетки, которые регулируют наследуемые изменения в экспрессии генов, не затрагивая последовательность ДНК [43]. Наиболее широко изученной эпигенетической модификацией является метилирование ДНК, который представляет собой перенос метильной группы в положение C5 цитозин-фосфо-гуанинового динуклеотида (CpG), что позволяет «выключать» определенные гены в промоторной области [44]. По сути, эпигенетика вызывает изменение фенотипа без изменения генотипа и зависит от нескольких факторов, включая окружающую среду, возраст, образ жизни и генетику [45]. Поскольку метилирование ДНК влияет на экспрессию генов и последующую трансляцию белков, оно потенциально может быть основным триггером заболевания, отражая влияния окружающей среды.
За последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс в оценке эпигенетических механизмов, вероятно, вовлеченных в патофизиологию ПЭ.
Как уже известно, интерлейкин-17 (IL-17), продуцируемый Т-лимфоцитами, повышен у женщин с ПЭ. Цитокины IL-17 являются мощным воспалительным агентом, которые повышают экспрессию хемокина нейтрофилов и IL-8 в гладкомышечных клетках сосудов у женщин с ПЭ, а также IL-17A стимулирует выработку гемопоэтических цитокинов, гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора и гранулоцитарного колониестимулирующего фактора, которые способствуют экспансии клонов нейтрофилов. Авторами отмечено гипометилирование гена IL2, который регулирует рост Т-лимфоцитов, продуцирующих IL-17 и который, в свою очередь, значительно снижает метилирование генов, кодирующих хемокины нейтрофилов и рецепторы фактор некроза опухоли-альфа, связанные с функцией лимфоцитов. Значительное повышение уровня IL-17A в плазме женщин с ПЭ имеет место во втором триместре беременности (13–28 недель) по сравнению с физиологической беременностью. На клеточной линии лимфоцитов (Jurkat) было показано, что гипометилирование увеличивало экспрессию IL17E (или IL25), IL17F и IL2 [46]. Получены данные о роли IL-17 в пролиферации, миграции и инвазии трофобласта посредством регуляции PPAR-γ/RXR-α/Wnt сигнального пути [47].
В исследовании с использованием дифференциально метилированных СрG (ДМ СрG) была предпринята попытка выявления различий в профиле метилирования у пациенток с ПЭ в зависимости от тяжести симптоматики. Для обоих фенотипов ПЭ были характерны 12 гиперметилированных ДМ СрG и 3 – гипометилированных ДМ СрG, что не позволяло их использовать в качестве инструмента дифференциальной диагностики. При углубленном анализе оказалось, что уровень метилирования ДНК в участках, расположенных рядом с ОНП, ассоциированными с ПЭ, не различался между группами. Таким образом, авторы выявили преобладание гипометилированных ДМ СрG по всему геному при умеренной ПЭ, а гиперметилированные ДМ СрG были более широко представлены при тяжелой ПЭ [48].
Как уже известно, формирование плаценты является инвазивным процессом, связанным с разрушением базальной мембраны и экcтрацеллюлярного матрикса. Низкая активность матриксных металлопротеиназ (MMП)2 и MMП9 могут приводить к уменьшению вазодилатации, усилению вазоконстрикции, гестационным гипертензивным нарушениям и ПЭ. Это может быть причиной неглубокой инвазии цитотрофобласта и неполного ремоделирования спиральных артерий на ранних сроках беременности [49].
У женщин с ПЭ наблюдается усиление метилирования промоторного участка гена ММП9, что свидетельствует о возможной даун-регуляции данного гена и, следовательно, об участии ММП9 в недостаточной инвазии трофобласта.
В своем исследовании J. Cruz et al. провели комплексный анализ метилирования ДНК локуса тканевого ингибитора металлопротеиназы-3 (TIMP3) в плацентах при ПЭ. Профиль гипометилирования и наибольшее количество повышенной экспрессии TIMP3 отмечалось в образцах плаценты беременных с ранней и поздней ПЭ, по сравнению с группой контроля (p<0,05). Кроме того, TIMP3 действует как антиангиогенный фактор, блокируя сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF) путем связывания с рецептором VEGF-2, что приводит к широко распространенной эндотелиальной дисфункции, запускающий каскад нарушений при ПЭ [47].
Протеомика и пептидомика
Известные молекулярные детерминанты ПЭ, расширяя наши представления о патогенезе ПЭ, подтверждают правильность высказывания, что ПЭ – это болезнь гипотез. Вместе с тем стремительное развитие «омных» технологий, стимулирует попытки поиска предикторов ПЭ в мельчайших продуктах обмена биологических жидкостей организма. Протеомика представляет собой полный набор белков, который экспрессируется или может экспрессироваться клеткой. Протеом очень сложен и динамичен, поскольку экспрессия белков меняется в зависимости от типа и физиологического состояния клеток [50].
В недавнем крупномасштабном исследовании Е. Bujold et al. было обнаружено 1108 белков мочи и отмечалась ап-регуляция 21 из них при ПЭ. Данные белки были отобраны для дальнейшего изучения. Активация 19 из 21 (90%) белков была подтверждена у пациенток с ПЭ (р<0,05). Применение данной панели белков в сроке гестации 20–24 недели позволяло идентифицировать 60% женщин, у которых в последующем развилась ПЭ и/или задержка роста плода, а в сроке 30–34 недели – 78% соответственно; при этом ложноположительный результат составлял 10% [51]. Таким образом, протеомика может быть полезным инструментом мониторинга течения заболевания или выявления группы риска.
Чтобы обнаружить дополнительные биомаркеры заболевания и выявить динамические изменения материнского протеома на протяжении всей беременности, были проведены два продольных исследования 1125 белков плазмы с помощью анализов на основе аптамеров у женщин, у которых развилась ПЭ с ранним или поздним началом [52, 53]. Были указаны лучшие предикторы последующего развития ПЭ с ранним началом: 1) высокое содержание MMP7 и гликопротеинокомплекса IIbIIIa в 16–22 недели беременности; и 2) низкое содержание PlGF и VEGF-121, а также повышенное содержание сиглека-6 и активина-А на 22-28 неделе беременности. На 22–28-й неделе повышенное содержание сиглека-6, активина-А и VEGF-121 отличало женщин, у которых впоследствии развилась ранняя ПЭ, от тех, у кого либо развивалась поздняя ПЭ, либо беременность протекала без осложнений. В соответствии с более ранними исследованиями, чувствительность моделей риска была выше для ПЭ с ранним началом и плацентарными гистологическими признаками сосудистой мальперфузии у матери, чем для всей группы ПЭ с ранним началом, возможно, потому, что эти модели специфичны для подтипа заболевания со сниженной маточно-плацентарной перфузией. Также при ПЭ было отмечено нарушение регуляции в отношении следующих биологических процессов: 1) «адгезия клеток» и «реакция на гипоксию», по-видимому, специфичные для ПЭ с ранним началом; 2) «низкомолекулярный метаболический процесс» и «положительная регуляция апоптотического процесса», характерные для ПЭ с поздним началом; и 3) «организация внеклеточного матрикса», «позитивная регуляция сигнального пути VEGFR» и «позитивная регуляция клеточной адгезии» были общими для обоих фенотипов этого синдрома [52, 53]. Как следует из этих и других протеомных исследований, антиангиогенное состояние, хотя и в разной степени выраженности, отражает общий путь развития ПЭ при всех фенотипах.
Более детальную информацию о функциональном состоянии организма представляет анализ пептидома. С точки зрения трансляционной медицины изменение активности определенных протеаз в результате патологического процесса может привести к изменению пептидного профиля при неизменном составе протеинов, и поэтому протеин или пептид могут служить не только диагностическим маркером заболевания, но и терапевтической мишенью.
В исследовании К.Т. Муминовой было показано, что для ПЭ и ПЭ на фоне хронической АГ специфичны 12 пептидов. Чувствительность и специфичность выявленной пептидной панели составили 93 и 91%. При этом подгруппа из 6 пептидов – фрагментов α-1-антитрипсина и коллагенов (I и III типов), а также уромодулина позволяет со 100% диагностической значимостью идентифицировать развитие тяжелой ПЭ. А уровень пептидов SERPINА1 коррелировал со степенью тяжести ПЭ [54].
В 2020 г. Н.Л. Стародубцева и соавт. [55] опубликовали исследование, в котором было установлено, что экскреция с мочой пептидов SERPINA1 была связана с наиболее тяжелыми формами ПЭ, прежде всего характеризующимися уровнем систолического АД и протеинурии.
Несмотря на большое количество многообещающих исследований в области поиска потенциальных биомаркеров ранней диагностики ПЭ, идеального маркера, способного предсказать дальнейшее развитие ПЭ, на данный момент не верифицировано, что обосновывает необходимость дальнейшего поиска.
Метаболомика как часть «омиксных» наук
Развитие «омиксных» наук привело к созданию новых направлений, позволяющих с высокой точностью исследовать молекулярный состав биологического образца. Метаболомика является самой молодой из «омиксных» наук, занимается изучением низкомолекулярных соединений (менее 1000 Да) в клетках, тканях, органах, биологических жидкостях, которые являются промежуточными и конечными продуктами обмена веществ. В большинстве работ, посвященных ПЭ, описывается метаболом плазмы, сыворотки и плаценты, при этом образцы сыворотки являются наиболее часто используемыми материалами [56–59]. У пациенток с ПЭ были обнаружены более высокие уровни липидов, 3-гидроксибутирата, аргинина, фенилаланина, аланина и лейцина и более низкие уровни валина [56, 58–60]. Отклонения в профиле метаболитов могут свидетельствовать о последствиях ПЭ вследствие полиорганной недостаточности. Метаболомное профилирование ткани плаценты также проводилось несколькими группами ученых [61–63]. В ткани плаценты беременных с ПЭ нарушается цикл метаболизма мочевины, о чем свидетельствуют повышенные уровни глутамата и глутамина. Таким образом, набор нескольких аберраций метаболитов может служить диагностическим набором биомаркеров для выявления ПЭ или мониторинга прогрессирования заболевания.
Так, L. Youssef et al. в своем исследовании обнаружили 25 метаболитов из 383, которые делают возможным дифференциальный диагноз ПЭ с другими гипертензивными расстройствами во время беременности. При ПЭ с ранним началом наиболее выраженные изменения в метаболоме касались метаболизма определенных аминокислот, таких как аргинин, аланин, аспартат, глутамат, пролин и гистидин, в дополнение к измененному липидному профилю. Среди основных нарушенных путей оказался биосинтез и метаболизм аргинина у пациенток с ПЭ [64], который считается важной молекулой в патофизиологии ПЭ, поскольку является предшественником оксида азота, мощного вазодилататора эндотелиального происхождения [65].
Метаболизм гистидина также нарушается при ранней тяжелой ПЭ [66]. Однако подробное профилирование этого пути при ПЭ не проводилось. Гистидин является предшественником карнозина, который действует как антиоксидант и поглотитель активных форм кислорода и ненасыщенных альдегидов жирных кислот клеточной мембраны, образующихся в результате перекисного окисления во время окислительного стресса [67]. Следовательно, высокие уровни гистидина могут отражать усиление окислительного стресса при ранней тяжелой ПЭ [68].
Метаболизм аланина, аспартата, глутамата и глутамина также был идентифицирован среди основных метаболических путей при тяжелой ПЭ с ранним началом. Аномальный метаболизм глутамата предполагает участие печени в глобальной модуляции метаболизма, поскольку метаболизм глутамата связан с реакциями аминотрансфераз, которые инициируют метаболизм почти всех аминокислот, а глутамат образуется путем переноса аминогруппы [69]. У пациенток с ранней тяжелой ПЭ были обнаружены более высокие концентрации валина, лейцина и изолейцина [8]. Эти три метаболита являются незаменимыми аминокислотами, которые играют решающую роль в энергетическом обмене. Комбинированный профиль изолейцина, лейцина, валина, тирозина и фенилаланина является предиктором сахарного диабета в будущем [70]. Эти результаты могут объяснить связь между ПЭ и двукратным увеличением риска сахарного диабета в последующем [71].
Хотя было исследовано множество метаболомных маркеров, до сих пор ни один из них не был выбран в качестве прогностического или диагностического биомаркера ПЭ [72].
Анализ метаболома мочи остается малоизученной областью у пациенток с ПЭ и заслуживает более глубокого исследования для выявления дифференциально экспрессируемых метаболитов, которые могут быть ценными биомаркерами для раннего прогнозирования ПЭ.
Как и другие омиксные исследования, упомянутые ранее (GWAS, протеомика, транскриптомика), метаболомные исследования в области ПЭ также ограничены размерами выборки и гетерогенностью этого заболевания. Тем не менее, метаболомика является новым высокопроизводительным методом для одновременной качественной и количественной оценки всех низкомолекулярных метаболитов в конкретных биологических образцах, что позволяет определить метаболический фенотип и фенотипические нарушения при различных акушерских патологиях, включая ПЭ.
Заключение
Необходимо проведение дальнейших исследований по поиску и валидации лабораторных маркеров ПЭ как для предикции, так и для предотвращения риска развития тяжелых форм ПЭ. С учетом имеющихся на сегодняшний день данных, будущие направления исследования могут быть сосредоточены на мультиомиксном интеграционном подходе для идентификации надежных биомаркеров заболевания.