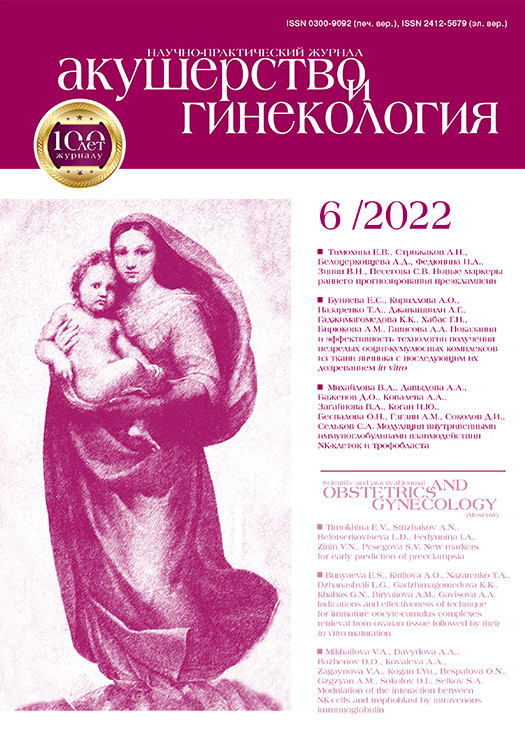Синдром Тернера (СТ) – одна из наиболее частых аномалий половых хромосом у женщин. Частота встречаемости СТ составляет около 1 случая на 2500 новорожденных женского пола [1]. Около 50% пациентов с СТ имеют моносомный кариотип 45X, мозаичные формы (45,Х/46,ХХ, 45,Х/47,ХХХ, 45,Х/46,ХY, 45,X/47,XYY и 46,X,delXq) составляют 30–40%, из которых наиболее распространенным является кариотип 45X/46XX – 15%, а кариотипы с клеточной линией 46,XY и 47,XXX встречаются в 5–10% и 3–4% случаев соответственно. Наиболее частой структурной аномалией Х-хромосомы является изохромосома 46,X,i(Xq), что составляет 15–18% случаев СТ с мозаицизмом или без него. Кольцевая Х-хромосома обнаруживается примерно у 6% пациентов с СТ, а частота делеции Xp – около 2% [2].
Цитогенетические исследования выявили большую критическую хромосомную область (КХО) между Xq13 и Xq28, отвечающую за нормальную функцию яичников. Позже стало известно, что делеции в проксимальной области Xq13eq21, обозначенной авторами как КХО1, характерны для пациенток с нормальным менcтруальным циклом и фертильностью, что, возможно, связано с инактивацией аутосомных, а не Х-сцепленных генов при сбалансированных Х-аутосомных транслокациях в этой области [3]. Напротив, терминальные и интерстициальные делеции между Xq23 и Xq28 (КХО2) были выявлены у женщин с преждевременной недостаточностью яичников (ПНЯ), что позволяет предположить, что эта область может содержать специфические гены яичников; причем, по данным Mercer С.L. et al. (2013), потеря Xq26-Xq28 оказывает наибольшее влияние на функцию яичников [4]. В связи с полученными данными, в соответствии с клиническими рекомендациями международного консенсуса по СТ 2016 г., пациенток с делецией дистальнее Xq24 рекомендовано рассматривать как страдающих ПНЯ [5]. В исследовании Quilter C.R. et al. (2010) сообщается, что при сравнительном анализе геномной гибридизации (aCGH) 42 пациенток с идиопатической ПНЯ у 15 были обнаружены вариации числа копий генов (CNV) на хромосоме X и хромосоме 7 [6]. Эти исследования предполагают, что аномальная структура Х-хромосомы и даже CNV на аутосомах могут быть связаны с фертильностью пациенток, что служит основой для более детальных исследований вклада отдельных генов в генетическую этиологию ПНЯ при СТ [1].
Исследование Reynaud K. et al. (2004) показало, что развитие яичников у плодов с СТ является нормальным до 12 недель беременности, но потеря ооцитов у многих из них ускоряется после 18 недель беременности. У плодов с нормальным кариотипом взаимодействие ооцитов с клетками мезонефроса начинается на 18-й неделе беременности, примордиальные фолликулы определяются на 20-й неделе, а антральные фолликулы – на 26-й. На той же неделе гестации ооциты присутствуют в яичниках плодов c 45,X моносомией, но фолликулов не наблюдается, а количество половых клеток при рождении значительно меньше, чем у девочек с нормальным кариотипом в том же возрасте [7]. Hook E.B. et al. (2014) также наблюдали, что у эмбриона с аномальным хромосомным кариотипом в репродуктивном гребне было нормальное количество половых клеток. Однако во II триместре беременности количество половых клеток было значительно ниже, чем у нормального плода, что указывает на то, что скорость апоптоза половых клеток во время развития была выше у плода с аномальным хромосомным кариотипом [8].
Таким образом, при СТ отмечается уменьшенный пул оогониев в первичных гонадах и примордиальных фолликулов уже при рождении, что в сочетании с последующей постнатальной потерей гамет приводит к недостаточности яичников и отсутствию спонтанного полового созревания более чем в 80% случаев, а овариальный резерв у 90% девочек истощается до достижения репродуктивной зрелости [7].
Однако более поздние исследования показали, что жизнеспособные фолликулы могут быть даже в яичниках 12–13-летних девочек с классическим СТ без спонтанного пубертата, хотя качество этих фолликулов сомнительно [9].
Функция яичников у больных СТ с разными кариотипами зависит от типа аномалии Х-хромосомы. Плотность фолликулов яичников у пациенток с мозаичным СТ (45,Х/46,ХХ) выше, чем при Х-моносомном СТ, и примерно 50% девочек с мозаицизмом имеют функционирующие яичники и, как следствие, спонтанное половое созревание. Несмотря на различия в плотности фолликулов, ПНЯ затрагивает большинство пациенток с СТ и только у 5–10% наблюдаются регулярные менструации [10]. Спонтанная беременность встречается только у 2% женщин с СТ, в основном в молодом возрасте (23–24 года), и, как правило, у пациенток с мозаичным кариотипом [11].
В литературе имеются сообщения о возникновении спонтанной беременности у женщин с Х-моносомией; в том числе описано два случая повторных спонтанных беременностей, что указывает на возможное различие кариотипа яичников и периферического кариотипа, а также на то, что овариальный резерв может снижаться независимо от периферического кариотипа при СТ [11, 12].
Оценивая исходы спонтанной беременности у 480 пациенток с СТ, Bernard V. et al. в 2016 г. обнаружили, что прогностическими факторами спонтанной беременности у женщин с СТ являются возраст на момент постановки диагноза СТ, спонтанное появление менархе, регулярные менструации и кариотип с мозаицизмом без Y-фрагмента [11].
Сохранение фертильности у пациентов с СТ потенциально осуществимо, поскольку у многих девочек с СТ фолликулы в яичниках сохраняются до подросткового возраста, а у некоторых женщин с мозаичным СТ фолликулы сохраняются в течение многих лет, даже несмотря на то, что у них часто отмечается преждевременная менопауза [10].
В соответствии с клиническими рекомендациями международного консенсуса по СТ 2016 г. рекомендуется консультировать пациентов по поводу быстрого снижения фертильности и рассмотреть вопрос о сохранении фертильности в молодом возрасте, однако оптимальные сроки для сохранения фертильности не определены [5]. Так, в настоящее время нет достаточных данных, чтобы рекомендовать девочкам с СТ в возрасте до 12 лет способы достижения беременности в будущем с помощью программ криоконсервации и вспомогательных репродуктивных технологий [5, 10].
Для определения кандидатов среди девочек и подростков с СТ, а также сроков проведения процедур по сохранению фертильности необходимы биохимические маркеры, отражающие овариальный резерв в детстве.
Также важна возможность прогнозирования степени ухудшения функции яичников, особенно для пациенток с мозаичным кариотипом, что позволит пациенткам своевременно принимать решение относительно сохранения фертильности и планирования семьи [13].
Оценка овариального резерва
В мировой практике для оценки овариального резерва долгое время использовалось измерение количества антральных фолликулов, сывороточных уровней фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), ингибина B и эстрадиола в ранней фолликулярной фазе. Однако все эти методы основаны на оси гипоталамус-гипофиз-яичники взрослых женщин. У детей гонадотропин-рилизинг-гормон вырабатывается на базальном уровне до 8 лет; в последующем у здоровых девочек начинается половое созревание. До этого периода уровни ФСГ, ингибина B и эстрадиола низкие. Несмотря на то что уровни гонадотропинов, как правило, выше у пациентов с СТ в первые 2–5 лет жизни, существует значительное сходство между уровнем этих гормонов у здоровых девочек и пациентов с СТ, особенно в периоде среднего детства [14]. Следовательно, считается, что уровень гонадотропинов может не отражать состояние овариального резерва до достижения половой зрелости.
В изучении оценки овариального резерва у девочек с СТ особый интерес представляют продольные исследования, оценивающие уровни гормонов у пациенток на протяжении взросления и соотносящие полученные значения с наличием спонтанного полового созревания. Одной из таких работ является ретроспективное продольное исследование Carpini S. et al. (2018), в котором изучалось динамическое изменение уровней ФСГ и лютеинизирующего гормона (ЛГ) у 15 пациенток с СТ, начиная с возраста менее 5 лет и до пубертатного периода. Исследование также представляет особую значимость тем, что в него вошли пациентки периода полового криза или «мини-пубертата», от рождения до 6 месяцев: у 4 из 5 девочек в возрасте менее полугода авторы отметили постменопаузальные уровни ФСГ (> 25,8 мМЕ/мл), у 1 – пубертатные значения гормона (>3,8, < 25,8 мМЕ/мл), а при последующем наблюдении ни у одной из 5 девочек не развилось спонтанное половое созревание [15]. Высокие концентрации ФСГ и ЛГ в периоде «мини-пубертата» также были выявлены у девочек с СТ в исследовании Johannsen T.H. et al. (2018), в котором авторы также отметили нормальное соотношение ЛГ/ФСГ, неопределяемые или низкие концентрации эстрадиола, ингибина В и АМГ у этих пациенток [16]. Уровни ФСГ у девочек с СТ в работе Carpini S. et al. (2018) отражали двухфазную возрастную модель: высокие значения в период новорожденности, «мини-пубертата» и раннего детства, которые снижались в периоде среднего детства, редко достигая нормального препубертатного диапазона, а затем снова повышались в периоде позднего детства и старше. Структура ЛГ, несмотря на двухфазность, выявила гораздо более высокие уровни в позднем детстве и подростковом возрасте, чем в периоде новорожденности, «мини-пубертате» и раннем детстве. Кроме того, снижение ЛГ в периоде среднего детства в сравнении с ранним детством было менее выраженным, чем снижение ФСГ, и часто наблюдались препубертатные уровни гормона [15]. Снижение уровней гонадотропинов у девочек с СТ в периоде среднего детства вне зависимости от остаточной функции яичников наблюдалось также в работах Hagen C.P. et al. (2010) и Hamza R.T. et al. (2018), что может свидетельствовать о том, что значения гонадотропинов могут не отражать овариальный резерв до начала полового созревания [14, 17]. Более того, в исследовании Carpini S. et al. (2018) обращает на себя внимание то, что спонтанное половое созревание наблюдалось только у девочек с нормальными уровнями ФСГ, зарегистрированными при динамическом наблюдении в периоде детства, а у пациенток с биологическим возрастом 10 лет и старше без спонтанного полового созревания определялись исключительно постменопаузальные концентрации ФСГ [15].
Продольное исследование 70 пациенток с СТ, выполненное Hagen C.P. et al. в 2010 г., выявило, что исключительно неопределяемые уровни ингибина В предсказывали ПНЯ (отсутствие полового созревания или остановку полового созревания) у 20 из 20 девочек с СТ, в то время как у 9 из 10 пациенток со спонтанным половым созреванием было зарегистрировано как минимум одно определяемое измерение ингибина B от начала периода детства до полового созревания. Несмотря на то что специфичность ингибина В в качестве маркера ПНЯ снижена из-за того, что у 37% здоровых девочек (6–12 лет) ингибин В не определяется, авторы отмечают, что последовательное измерение флуктуирующего уровня ингибина В в данной когорте пациентов увеличит возможность обнаружения остаточной функции яичников [14]. Messina M.F. et al. (2015) продемонстрировали, что уровень ингибина В у пациенток с СТ с первичной аменореей значительно ниже (42,0 пг/мл, 38–46 пг/мл), чем в группе контроля (83,0 пг/мл), тогда как у пациенток с регулярными менструальными циклами уровни гормона сопоставимы с таковыми у девочек из контрольной группы [18].
Известно, что уровень сывороточного АМГ является достоверным маркером растущего пула фолликулов и, косвенно, состояния овариального резерва. У женщин репродуктивного возраста уровень АМГ в сыворотке сильно коррелирует с количеством антральных фолликулов и становится неопределяемым в период постменопаузы. Снижение уровня АМГ в сыворотке предшествует изменениям традиционных маркеров резерва яичников, таких как ФСГ, ингибин B и эстрадиол. В связи с чем считается, что уровень АМГ в сыворотке крови представляет собой маркер овариального резерва у взрослых женщин, независимо от оси гипоталамус-гипофиз-яичники. В детском возрасте уровень АМГ незначительно повышается с момента рождения и достигает плато в подростковом возрасте; его снижение с возрастом начинает отмечаться только после 25 лет. Тем не менее оценка сывороточного АМГ в молодом возрасте также указывает на продолжающееся фолликулярное развитие [19].
Одной из самых значимых работ по изучению овариального резерва девочек с СТ является продольное исследование Европейского общества педиатрической эндокринологии (Visser J.A. et al.) 2013 г., в котором производилась оценка уровней АМГ в сыворотке 270 девочек с СТ с определением корреляции значений с возрастом, кариотипом, половым развитием и биохимическими маркерами функции гонад пациенток (сывороточный ЛГ, ФСГ, ингибин B и эстрадиол). В когорте пациентов с измеряемым уровнем АМГ авторы наблюдали пограничную квадратичную зависимость между уровнем АМГ и возрастом девочек с повышением уровня в раннем детстве и начальным снижением в старшей возрастной группе, что может свидетельствовать о том, что динамика фолликулов у пациентов с СТ с измеримым уровнем AMГ подобна динамике в здоровой группе контроля [20]. Также была обнаружена положительная корреляция между уровнем АМГ в сыворотке крови и клиническими признаками полового созревания (телархе, менархе), а спонтанное менархе было зарегистрировано у 58,3 и 2,9% девочек с измеряемым уровнем АМГ в сыворотке и без него соответственно, что находит подтверждение и в работе Hagen C.P. et al. (2010) [19]. Особый интерес в исследовании Visser J.A. et al. (2013) представляет выявление сильной отрицательной связи между уровнями ФСГ и АМГ у девочек старше и младше 12 лет: вероятность определения измеримого уровня АМГ была в 19 раз ниже, если уровень ФСГ повышался в 10 раз, в то время как отрицательная связь для ЛГ и АМГ отмечалась лишь у девочек старше 12 лет и была менее значимой, а между уровнями AMГ, эстрадиола и ингибина B вовсе не было обнаружено значимой связи. Visser J.A. et al. (2013) также отметили, что в группе девочек старше 12 лет ФСГ менее 10 Ед/л коррелировал с измеримым уровнем АМГ [20]. Полученные результаты согласуются с продольным исследованием 120 пациенток с СТ, выполненным Lunding S.A. et al. в 2015 г., которое обнаружило, что АМГ<4 пмоль/л (<-2 SD) является предиктором отсутствия полового созревания у девочек в препубертатном периоде и ПНЯ в старшем возрасте, а уровень АМГ≤3 пмоль/л как маркер ПНЯ имеет чувствительность и специфичность 95% [21]. Отрицательная корреляция уровней АМГ и ФСГ была также описана в работе Hamza R.T. et al. (2018), где авторы также выявили положительную корреляцию между вероятностью определения измеримых уровней АМГ в сыворотке и увеличением возраста у пациенток с СТ младше 12 лет и обратную связь у девочек старше 12 лет [17].
Зависимость овариального резерва от кариотипа
Данные Fechner P.Y. et al. (2006) демонстрируют отчетливые различия в характере секреции ФСГ между девочками 4–6 лет с моносомным СТ, у которых отмечались повышенные уровни ФСГ (68,3±36,0 МЕ/л) до 6 лет, несмотря на его медленное снижение за двухлетний период наблюдения, и девочками с 45,X/46,XX мозаицизмом, уровни ФСГ которых указывают на сохраненную функцию яичников в большинстве случаев и не имеют тенденции к существенному изменению за период наблюдения [22]. Результаты этого исследования нашли подтверждение в продольном исследовании 70 пациенток с СТ Hagen C.P. et al., выполненном в 2010 г. [14].
По результату крупного исследования Европейского общества педиатрической эндокринологии Visser J.A. et al. (2013), уровни АМГ в сыворотке у пациенток с СТ сильно коррелировали с кариотипом: вероятность наличия измеримого сывороточного AMГ у девочек с мозаичным кариотипом 45,X/46,XX была в 37 раз выше, а у девочек с другими кариотипами (46,X,i(Xq), 46,X,i(Xp), 46,X,del(X), 46,X,r(X), 45,X/47,XXX и др.) в 3,4 раза выше в сравнении с пациентками с кариотипом 45,X [20]. Аналогичные результаты были получены и другими авторами: Hamza R.T. et al. (2018) [14], Hagen SP et al. (2010) [19], Purushothaman R. et al. (2010) [23].
Hagen S.P. et al. в 2010 г. представили значения сывороточного АМГ у 172 пациенток с СТ в зависимости от их возраста, кариотипа и функции яичников, продемонстрировав, что у пациенток с кариотипом 45,X, у которых уровень АМГ находился в референсном диапазоне, отмечалась нормальная функция яичников, что не позволяет исключить возможность того, что в тканях яичников этих пациенток мог присутствовать мозаицизм с преобладанием нормальной клеточной линии, не выявляемой в периферической крови [19, 24].
В работе Purushothaman R. et al. (2010) показано, что уровень ингибина А был значительно выше в группе пациенток с СТ с удовлетворительной вероятностью фертильности (45,X/46,XX; 46,X del(Xp)) в сравнении с группой с плохим прогнозом фертильности (45,X; 45,X/46,Xr(X); 46,X del(Xq); 45,X/46,XY), это позволяет предположить, что он может быть полезен при оценке потенциала фертильности у девочек с СТ [23]. В то время как в работе Messina M.F. et al. (2015) средний уровень ингибина В значимо не различался среди различных подгрупп по отношению к кариотипу: 42,0 пг/мл – у пациентов с моносомией, 41,2 пг/мл – при мозаицизме и 42,2 пг/мл – при структурных аномалиях Х-хромосомы [25].
Hankus M. et al. в 2018 г. исследовали предикторы спонтанного полового созревания, проведя продольное исследование 110 девочек с СТ. В работе авторы описали, что у пациентов с Х-моносомным кариотипом вероятность спонтанного полового созревания была вдвое ниже, а вероятность спонтанного менархе – в 3 раза ниже, чем у пациентов с иным кариотипом СТ (45,X/46,XX; 45,X/46,Xr(X); 46,Xi(Xq); 45,X/46,Xi(X)(q10); 45,X/46,XX/47,XXX; 45,X/47,XXX). Из результатов исследования следует вывод о том, что возраст начала спонтанного полового созревания и менархе нельзя предсказать только на основании кариотипа, поскольку авторы не выявили различий между обеими группами [26].
Fitz V.W. et al. (2021) в недавней работе охарактеризовали возраст возникновения недостаточности яичников у пациенток с СТ в зависимости от кариотипа на основании ретроспективного анализа 79 девочек с СТ. Возраст ПНЯ определялся на момент впервые зарегистрированного уровня ФСГ>30 МЕ/мл или АМГ<0,01 нг/мл. Среднее время от постановки диагноза СТ до потери функции яичников среди 55 человек с ПНЯ составило 4,9 года. Средний возраст манифестации недостаточности яичников в группе пациентов с Х-моносомией составил 10 лет, причем у всех 30 девочек этой группы зарегистрирована ПНЯ, в то время как в группе пациентов со смешанным кариотипом без Y-хромосомного материала манифестация ПНЯ происходила в среднем в 13 лет. Наименьший риск потери овариального резерва наблюдался в группе девочек с мозаичным кариотипом 45X/46XX, в которой была только 1 пациентка с потерей яичникового резерва в возрасте 4 лет. Статистически значимо получен результат, определяющий, что на каждый процентный пункт увеличения 45,X клеток в периферическом кариотипе наблюдалось снижение возраста яичниковой недостаточности на 0,09 года. На основании исследования авторы предлагают мониторинг биомаркеров яичников и рассмотрение возможности направления к репродуктологу в возрасте 10–12 лет, особенно пациентов с мозаичным кариотипом, чтобы дать время для обсуждения и рассмотрения индивидуальных вариантов сохранения фертильности [13].
Характеристика биоптатов ткани яичников у девочек с синдромом Тернера
В 2002 г. Hreinsson J.G. et al. исследовали ткань гонад 9 девочек с СТ в возрасте 12–19 лет перед проведением криоконсервации, обнаружив фолликулы в образцах биопсии у 8 из 9 пациенток, причем наибольшее количество наблюдалось у младших девочек. Авторы отметили корреляцию между уровнями ФСГ у пациенток без применения гормональной терапии и плотностью фолликулов: у лиц с самым низким уровнем ФСГ была самая высокая плотность фолликулов.
Корреляция между плотностью фолликулов и кариотипом была менее ясна, поскольку, несмотря на то, что наибольшее количество фолликулов наблюдалось у лиц с мозаичным СТ, у 2 девочек с моносомным кариотипом 45,X также определялись первичные и примордиальные фолликулы с плотностью 50–128 фолликулов/мм3. В соответствии с полученными результатами авторы рекомендовали оптимальное время для получения как можно большего количества фолликулов для криоконсервации – возраст 12–13 лет, особенно в случаях Х-моносомии [27].
Позже результаты биопсии яичниковой ткани в исследовании Borgstrom B. et al. (2009) позволили выделить 5 факторов, значимых для обнаружения оставшихся фолликулов в яичниках девочек с СТ в возрасте 13–17 лет: кариотип, низкий уровень ФСГ, высокий уровень АМГ, спонтанное менархе и спонтанное начало полового созревания. Авторы определили следующие категории девочек, которые имеют самые высокие шансы на наличие фолликулов и могут стать кандидатами для проведения криоконсервации: 1) девочки с мозаицизмом (45X/46XX/47XXX); 2) девочки со спонтанным половым созреванием и кариотипом 45Х или 45Х/46Х+SAs и 3) девочки с нормальным сывороточным уровнем ФСГ и/или нормальным уровнем АМГ с наличием или отсутствием спонтанного полового созревания. Исследование продемонстрировало, что уровни АМГ в сыворотке напрямую коррелировали с количеством фолликулов яичников, оцененным с помощью гистологического анализа 47 биоптатов [10].
Работа Mamsen L.S. et al. (2019) стала первым исследованием, в котором охарактеризованы фолликулы 15 пациенток с СТ в возрасте 5–22 лет, ткань яичников которых была получена для последующей криоконсервации, а также изучен потенциал созревания их ооцитов in vitro. Фолликулы были обнаружены в 60% биоптатов (9 из 15) из яичников пациенток с СТ: у 8 девочек с мозаичным кариотипом и 1 с моносомным кариотипом в возрасте 5 лет. У всех пациенток, в яичниковой ткани которых были обнаружены фолликулы, определялся измеряемый уровень АМГ и/или ФСГ<10 МЕ/л. В 78% яичников (7 из 9) с фолликулами плотность фолликулов находилась в пределах 95% доверительного интервала контрольной группы. Корреляции между плотностью фолликулов и возрастом обнаружено не было.
Фолликулы большинства яичников (6 из 9) имели аномальную морфологию: деформацию, вакуолизацию ооцитов и неполный слой гранулезных клеток, окружающих ооцит, что приводило к неправильной форме ооцита и частичному отсутствию связи с базальной мембраной и стромальными клетками. Более того, шесть фолликул-специфических белков экспрессировались одинаково у пациентов с СТ и в контрольной группе, однако было обнаружено, что апоптоз и экспрессия белка zona pellucida при СТ являются аномальными. Фолликулярная жидкость, полученная из мелких антральных фолликулов пациентов с СТ, имела более низкие концентрации эстрогена и тестостерона и более высокие концентрации АМГ, чем в контрольной группе [28].
Peek R. et al. в 2019 г. первыми опубликовали анализ кариотипа примордиальных и первичных фолликулов яичников, клеток гранулезы и стромальных клеток 10 пациенток с СТ, в котором сообщают о том, что обнаружена корреляция между мозаицизмом яичниковой и экстраовариальной ткани (лимфоциты, буккальные клетки и клетки мочи). Большинство ооцитов из мелких фолликулов пациентов с мозаичным СТ имели нормальный кариотип, но все или большая часть гранулезных клеток отдельных фолликулов были анеуплоидными. Фолликулы в одном яичнике у пациенток с СТ могут различаться уровнем мозаичности гранулезных клеток. В яичниках пациенток с X-моносомией не было обнаружено фолликулов и признаков мозаицизма в клетках стромы, однако уровень мозаицизма, наблюдаемый в неяичниковой ткани девочек с мозаичным СТ, не коррелировал с таковым в клетках яичников. Однако, несмотря на наличие морфологически нормальных фолликулов, у пациенток с мозаичным СТ аберрантный кариотип клеток гранулезы и стромального компартмента яичников может оказывать негативное влияние на функцию яичников. Из-за ускоренного апоптоза и более длительного клеточного цикла сроки пролиферации гранулезных клеток во время созревания фолликулов могут быть искажены.
Примечательно, что яичник, стромальный компартамент клеток которого содержал 10% клеток 46,ХХ, также имел нормальную морфологическую картину. Явной корреляции между количеством фолликулов в яичнике и кариотипом соматических клеток или ооцитов пациенток в исследовании не было обнаружено [29].
В исследовании Balen A.H. et al. (2010) 60% стромальных клеток яичников пациентки 45,X/46,XX, из которых ооциты 46,XX были извлечены после стимуляции ФСГ, имели моносомный кариотип 45,X, что может указывать на возможность развития фолликулов, даже если большинство стромальных клеток яичников анеуплоидны [30].
В 2020 г. Nadesapillai S. et al. описали случай обнаружения фолликулов у 14-летней девочки с моносомным СТ при наличии скрытого гонадного мозаицизма. Кариотипирование экстраовариальных клеток (лимфоциты, буккальные клетки и клетки мочи) определило исключительно клеточную линию 45,X. FISH-анализ показал, что большинство ооцитов имело нормальное тетраплоидное содержание Х-хромосомы в профазе мейоза I, в компартменте стромальных клеток были клеточные линии 45,Х и 47,ХХХ, а все клетки фолликулярной гранулезы имели кариотип 45,Х. Анализ роста фолликулов in vitro продемонстрировал, что однослойные фолликулы способны созревать во вторичные фолликулы, но слои их гранулезных клеток и базальная мембрана деформированы. Авторы сообщают, что аномальная толстая базальная пластинка, которую они наблюдали во вторичных фолликулах пациентки с СТ, может нарушать рост массы делящихся гранулезных клеток, что приводит к искажению клеточных слоев и фолликулярной морфологии [31]. Более того, она задерживает завершение клеточного цикла 45,X-клеток, что может нарушать не только пролиферацию моносомных гранулезных клеток во время фолликулогенеза, но также и стадийно-специфическую двунаправленную передачу сигналов между ооцитом и окружающими гранулезными клетками [32].
Также функциональная способность ткани яичника после аутотрансплантации может зависеть от процентного содержания нормальных клеток 46,ХХ, необходимых для роста фолликулов и овуляции, и наличия анеуплоидии в ооцитах примордиальных и первичных фолликулов [7, 29, 33].
Результаты сохранения фертильности у пациенток с синдромом Тернера
Криоконсервация ооцитов после стимуляции овуляции является возможным вариантом сохранения фертильности у молодых женщин с мозаичным СТ с персистирующей функцией яичников [5]. За последние 10 лет было доложено о 18 случаях криоконсервации зрелых ооцитов у пациенток с СТ [34].
В ретроспективном когортном исследовании Talaulikar V.S. et al. (2019) описаны 7 пациенток с СТ в возрасте 18–26 лет с кариотипами 45,X(100%); 45,X (83%)/46,XX (17%); 45,X (61%)/46,XX (39%); 45,X/46,XX/47,XXX; 45,X (63%)/46,XX (37%); 45,X (50%)/46,XX (50%); 45,X (88%)/46,XX (12%), которым были произведены стимуляция суперовуляции, пункция антральных фолликулов с их последующей криоконсервацией. Было получено 9, 13, 9, 10, 4, 6, 12 ооцитов соответственно, из которых больше половины или все ооциты были подвержены криоконсервации в зрелом состоянии. Авторы не обнаружили взаимосвязи между исходным количеством антральных фолликулов, уровнем АМГ и числом полученных ооцитов [35].
Oktay K. et al. (2014) описали успешное проведение криоконсервации зрелых ооцитов у 3 девочек с мозаичным СТ в возрасте 13 лет с кариотипами 45,X (27/30)/47,XXX (3/30), 46,ХХ (11/20)/45,Х (9/20), 46,ХХ (16/20)/45,Х (4/20). Было получено соответственно 19, 18 и 16 ооцитов, из которых 10, 12 и 13 зрелых ооцитов были подвержены криоконсервации (часть ооцитов была получена при повторном проведении пункции или при проведении процедуры созревания ооцитов in vitro) [36].
В последней работе Strypstein L. et al. (2022) доложили о случае первого живорождения после витрификации ооцитов у женщины с мозаичным кариотипом СТ (45,X/46,XX) [37].
К сожалению, количество зрелых ооцитов, получаемых за один цикл стимуляции овуляции у пациенток с СТ, крайне мало, в связи с чем процедуру часто приходится повторять, чтобы в итоге получить более 10 зрелых ооцитов [1].
Применение криоконсервации ооцитов ограничено небольшим процентом девочек с СТ, у которых овариальный резерв будет сохранен после спонтанного начала полового созревания и менархе. Кроме того, пациентка должна быть эмоционально зрелой, чтобы пройти процедуру, включающую стимуляцию суперовуляции и последующую трансвагинальную пункцию фолликулов [38]. Альтернативным методом сохранения фертильности является криоконсервация ткани яичника.
Первый случай криоконсервации ткани яичника у женщины с мозаичным СТ был зарегистрирован в 2008 г. [39]. Более 10 лет назад было предложено, что сочетание криоконсервации ткани яичника и сбора незрелых ооцитов из ткани с последующей активацией in vitro и витрификацией созревших ооцитов представляет собой многообещающий подход к сохранению фертильности для пациенток с мозаичным СТ [40]. Однако протоколы, подтверждающие его использование, получены в основном от пациенток со злокачественными заболеваниями.
Donnez J. et al. в 2004 г. впервые сообщили о том, что пациентка с ПНЯ, вызванной химиотерапией лимфомы Ходжкина, успешно забеременела и родила после ортотопической трансплантации ее криоконсервированной ткани яичника [41]. По актуальным данным, к 2017 г. количество живорождений по этой технологии превысило 130 детей, причем коэффициент живорождения постоянно растет [42]. В 2020 г. было зарегистрировано около 200 живорождений в результате трансплантации яичниковой ткани, которая была криоконсервирована для сохранения фертильности пациенток [43].
В исследовании Poirot С. et al. (2019) сообщалось о криоконсервации ткани яичников у 418 девочек и подростков в возрасте до 15 лет со злокачественными и доброкачественными заболеваниями. Недавно 3 пациентам была проведена аутотрансплантация, но о беременности пока не сообщалось [44].
Corkum K.S. еt al. (2019) доложили о 1019 пациентах, прошедших криоконсервацию овариальной ткани, в возрасте от 0,4 до 20,4 года, из которых 298 были моложе 13 лет. 18 пациенткам была проведена аутотрансплантация размороженной ткани коры яичника (средний возраст на момент аутотрансплантации – 24 года), которая была криоконсервирована в возрасте до 21 года, в результате чего родились 10 детей. Среднее время между криоконсервацией яичниковой ткани и ее аутотрансплантацией составило 8,7 года [45]. Gellert S.E. et al. (2018) сообщили о рождении в общей сложности 93 детей после аутотрансплантации размороженной ткани яичника, причем 51% беременностей наступили в результате естественного зачатия. Возрастной диапазон пациенток на момент криоконсервации овариальной ткани, у которых зарегистрированы живорождения или сохранение беременности, составил от 9 до 38 лет [46].
Считается, что полное биологическое развитие яичников завершается в III триместре беременности, следовательно, возможно, что размороженная ткань яичника после аутотрансплантации будет функционировать независимо от возраста ребенка, в котором эта ткань была криоконсервирована [40]. Подтверждение этому представлению нашлось в сообщении о первом живорождении после аутотрансплантации размороженной ткани яичника, криоконсервированной до менархе, о котором сообщалось в 2015 г. [47]. Если ткань яичников не подвергается криоконсервации в раннем возрасте, успех этой технологии у девочек с СТ, особенно с моносомным кариотипом, может быть предсказуемо ограничен в результате ускоренного истощения фолликулярного пула [40].
Mamsen L.S. et al. сообщили о 15 пациентках с СТ в возрасте от 5 до 22 лет, которым была проведена криоконсервация ткани яичников. В этой работе также был собран 31 ооцит-кумулюсный комплекс из яичниковой ткани пациентки с СТ в возрасте 18 лет и культивирован в течение 48 ч in vitro, в результате чего было получено 5 ооцитов метафазы II (скорость созревания 16%, скорость дегенерации 19%). Автор предполагает, что преимущества процедуры могут быть ограничены тщательно отобранной группой пациентов с мозаичным кариотипом [28].
По данным систематического обзора литературы Jeve Y.B. (2019), за последние 16 лет криоконсервация ооцитов или ткани яичников проведена экспериментально более чем у 150 девочек и подростков с СТ, однако эффективность для этой подгруппы пациентов до сих пор неизвестна из-за отсутствия данных последующего наблюдения [40].
В настоящее время проводятся 2 крупных многоцентровых исследования, направленных на оценку актуальности криоконсервации ткани яичников у пациенток с СТ от 0 до 25 лет (Франция, с 2011 г.), а также по изучению частоты живорождения у женщин с СТ после криоконсервации ткани яичников в детском возрасте от 2 до 18 лет с последующей аутотрансплантацией во взрослом возрасте (Нидерланды, с 2018 г.), которые, вероятно, предоставят доказательную базу эффективности сохранения фертильности у девочек с СТ и позволят выявить пациенток, которым процедуры сохранения фертильности принесут наибольшую пользу [48, 49]. Также с февраля 2020 г. в Нидерландах проводится исследование гормонального спектра ЛГ, ФСГ, АМГ, ингибина В, тестостерона и эстрадиола у девочек с СТ в периоде мини-пубертата для оценки овариальной функции и прогнозирования овариального резерва в будущем [50].
Заключение
Поскольку резервная способность яичников у девочек с СТ различается, необходимо как можно раньше выявлять пациенток, которые смогут сохранить свою фертильность. Основываясь на вышеупомянутых исследованиях, девочкам с СТ следует проводить раннюю оценку овариального резерва в возрасте до 10 лет, учитывая кариотип, уровни ФСГ, АМГ и ингибина В, спонтанное менархе и половое созревание, чтобы своевременно рассмотреть возможные варианты сохранения фертильности. Сывороточный АМГ является достоверным маркером функции яичников у девочек препубертатного периода и подростков с СТ, а последовательное измерение флуктуирующих уровней ФСГ и ингибина В уже в периоде детства у этой когорты пациентов может быть перспективным методом обнаружения остаточной функции яичников.
По причине ограничений применения криоконсервации ооцитов у девочек с СТ криоконсервация ткани яичника представляется более многообещающим методом сохранения их фертильности, поскольку она может быть выполнена у детей независимо от их возраста и активности яичников и, вероятно, позволит сохранить фертильность большему количеству пациентов.