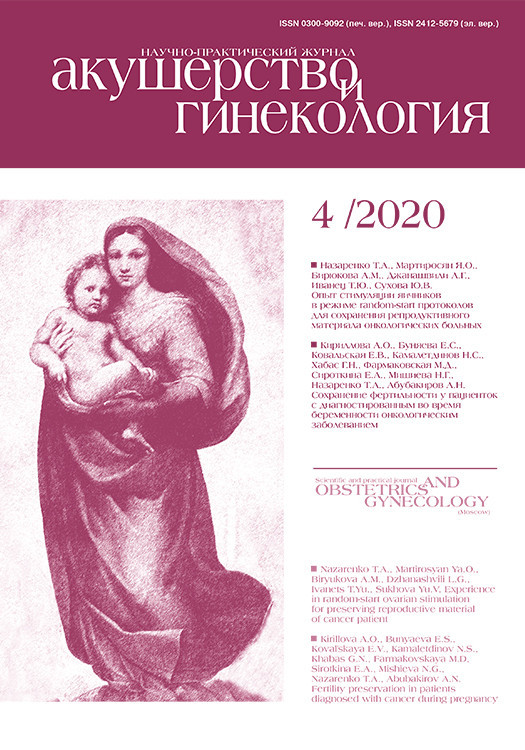Проблема бесплодия – одна из самых важных и сложных проблем современного общества. Так, по данным Национального исследования роста семьи (США, National Survey of Family Growth, NSFG), 15,5% всех желающих забеременеть женщин в США являются бесплодными. Препятствия к беременности (то есть физические осложнения при зачатии или вынашивании ребенка) встречаются у 12% женщин, независимо от брачного статуса, а также у 23,6% замужних бездетных женщин [1].
Под бесплодием, согласно Клиническим рекомендациям Минздрава России «Женское бесплодие (современные подходы к диагностике и лечению)», понимается «заболевание, характеризующееся невозможностью достичь клинической беременности после 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции вследствие нарушения способности субъекта к репродукции, либо индивидуальной, либо совместно с его/ее партнером» [2]. В России, по данным Федеральной службы государственной статистики, количество женщин 18–49 лет, страдающих бесплодием, с 2005 по 2018 гг. выросло почти в два раза – с 146,6 в 2005 г. до 273,8 в 2018 г. (на 100 000 женщин) [3]. Ответом на данный вызов является стремительное развитие и совершенствование вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Репродуктологи прибегают к донорскому материалу в случаях, предусмотренных Клиническими рекомендациями Минздрава России «Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная инсеминация», например, при наличии у женщины генетических заболеваний, сцепленных с полом; при наследственных заболеваниях у мужа (партнера) и др. [4].
В данной статье рассматривается донорство гамет и эмбрионов и суррогатное материнство. Несколько десятков лет в России существовало только коммерческое донорство спермы и ооцитов за редким исключением внутрисемейных родственных случаев. Отдельно следует рассматривать феномен эмбрионального донорства, как самый сложный и неоднозначный. Мотивация суррогатного материнства также мало изучена в психологии. В настоящее время изучению мотивации данного вида донорства и суррогатного материнства посвящен целый ряд зарубежных исследований, которые рассматривают ее как многоаспектное и сложное явление [5–8]. В Российской Федерации исследований мотивации донорства гамет и эмбрионов и суррогатного материнства практически нет. В то же время изучение этой проблемы имеет важное значение как для привлечения новых доноров, способных предоставить качественный биологический материал, так и для формирования позиции реципиентов, облегчающей им принятие решения по участию в донорских программах.
В данном обзоре анализируются мотивы в контексте внутрисемейного донорства, добровольного (безвозмездного) донорства, коммерческого донорства, а также случаи смешанной мотивации.
Мотивация донорства спермы
Мотивы доноров спермы могут быть как внешними, обусловленными соображениями материальной выгоды, так и внутренними. Внутренние мотивы очень разнообразны – от альтруизма до «собственного удовольствия» [7]. Альтруистические мотивы могут включать желание безвозмездно поделиться «хорошими генами» и помочь бесплодным парам стать родителями или «внести вклад в человеческую эволюцию» [8]. Некоторые исследователи видят в мотивации доноров спермы эгоистический интерес, который связан с желанием распространить свои гены и нарциссизмом [9], тогда как другие считают, что многие доноры удовлетворяют свое желание продолжить свой род и подтвердить свой фертильный статус [10]. Донорство спермы также может быть мотивировано подтверждением своей мужественности [8].
Установить приоритетность добровольных и коммерческих мотивов донорства спермы довольно сложно. Хотя материальная компенсация оценивается донорами положительно[11], ее отсутствие зачастую не влияет на решение о донорстве, особенно среди молодежи [12]. Вознаграждение – не самый важный фактор [7] и иногда является не столько собственно наградой за донорство [13], сколько путем обеспечения иных моральных обязательств, которые имеет донор по отношению к своей семье [8].
Мотивация донорства ооцитов
Мотивы доноров могут быть как альтруистическими [13], так и прагматическими [14]. В странах, где оплата донорства яйцеклетки запрещена (Бразилия, Канада, Финляндия), мотивация доноров, по их заявлениям, является исключительно альтруистической [14]. Поскольку донорство яйцеклетки между сестрами является наиболее распространенным и наиболее общественно признанным явлением [15], внутрисемейные доноры не связаны никакими легальными обязательствами и не подвержены никакому давлению, которые бы влияли на «степень их автономии, когда они сталкиваются с потребностью члена семьи в ооците» [16]. В случае донорства яйцеклетки между друзьями или членами семьи «личное отношение к реципиенту играет важнейшую роль при решении о донорстве» [17], а доноры воспринимают донорство яйцеклетки как «средство помочь реципиентам забеременеть» [8]. Некоторые доноры утверждают, что они мотивированы желанием «расплатиться» за аборт, совершенный ранее, т. е. компенсировать чувство вины и моральную травму [19].
Для тех, кто вовлекается в коммерческое донорство яйцеклетки, значение оплаты различается в зависимости от возраста [20]. В отличие от ряда категорий доноров, которые считают оплату маловажным фактором, студенты или те, кто становится донором неоднократно, считают оплату очень важной [20]. Более того, некоторые согласны на донорство, только если они получат денежную компенсацию [21]. В исследованиях отмечается, что «финансовая прибыль сама по себе не компенсирует усилий, необходимых для прохождения процедуры» [22].
Мотивация доноров может меняться «в зависимости от правил и законодательства о донорской деятельности, то есть при гарантированной анонимности, или при возможности оплаты, и т. п.» [22]. Например, результаты ряда исследований расходятся в оценке той роли, которую может играть мнение партнеров. С одной стороны, мнение супругов доноров очень важно для принятия решения о донорстве яйцеклетки [23]. Тогда как другие исследования [17] свидетельствуют о том, что не столько мнение, сколько поддержка супруга имеет значение для принятия решения о донорстве.
Исследования показали, что восприятие донором индивидуальных выгод от пожертвований может изменяться со временем. Так, некоторые доноры инициировали процесс за деньги, но затем осознали, что беспокойство по поводу бесплодной пары стало для них более значительным [22]. Исследования, проведенные в Бразилии, также свидетельствуют о том, что если колеблющийся потенциальный донор знает о прежнем неудачном лечении будущего реципиента от бесплодия, то это может подтолкнуть его к согласию [14].
Мотивация донорства эмбрионов
Донорство эмбрионов имеет свою специфику, существенно отличающуюся от донорства спермы и ооцитов. По мере распространения и усовершенствования криоконсервации «хранение избыточных эмбрионов получает все большее распространение» [24]. Поскольку количество эмбрионов, полученных в результате ВРТ, превышает потребность пациентов, возникает вопрос о том, что делать с оставшимися эмбрионами. Эмпирические данные о мотивации доноров эмбрионов достаточно разнообразны и варьируют от «желания избежать наихудшего исхода для полученного эмбриона» [5] до «наиболее привлекательного варианта» [25] для лиц, предварительно согласившихся на донорство избыточных эмбрионов.
Мотивация донора существенно меняется в зависимости от его отношения к эмбриону и реципиенту. Поскольку потенциальные доноры чаще всего создают эмбрионы для себя, они привязаны к своим эмбрионам, считая их живым организмом, следуя логике «ооцит-эмбрион-зародыш-ребенок» [26]. Многие доноры считают свои эмбрионы потомками и потому рассматривают донорство, как передачу ребенка на усыновление [27]. Метафора усыновления наиболее часто используется для понимания процесса донорства эмбрионов и настолько популярна, что бывший президент США Джордж Буш назвал клиники ВРТ «приютами» [28]. Некоторые доноры даже считают акт передачи эмбрионов жертвой (sacrifice) и утратой [29]. Однако недавняя работа Millbank J. et al. [25] показывает, что доноры проводят различие между донорством эмбрионов и усыновлением, то есть доноры «признают свою роль в создании ребенка, но осознают, что только вынашивание и родительство вместе приводят к “настоящему родительству”». Это ведет к пониманию донорства эмбрионов, как «дарения», в котором доноры, скорее, «видят себя субъективно альтруистами» [29]. К сожалению, в России вопросы «дарения» либо «усыновления» эмбрионов законодательно не урегулированы.
В донорстве эмбрионов огромное значение имеют отношения между донорами и будущими реципиентами. Многие доноры видят свое отношение с реципиентами, как взаимное обязательство, они разделяют общую цель – создание полной семьи и обретение родительства. Доноры хотят получать информацию о результатах имплантации эмбрионов и о судьбе потомков, поскольку хотят быть уверенными в том, что отданные ими «потомки» растут в достойных условиях [15]. Некоторые даже предпочитают, чтобы их реципиентами были родственники или близкие знакомые [15]. В ряде исследований показано, что доноры считают эмбрионов уже детьми, они часто откладывают решение о донорстве для науки, поскольку шокированы самой идеей передачи эмбрионов для исследования. Однако поначалу некоторые приходили к смешанным решениям «отдать половину для науки и половину для другой пары в тот период, когда ЭКО было еще внове» [5]. Хотя коммерческое донорство эмбрионов встречается достаточно редко, поскольку запрещено в некоторых странах, все же есть оплачиваемые доноры, которые не указывают иных причин для прохождения цикла ЭКО, кроме финансовых [20].
Особым случаем является донорство для научных исследований. Как известно, эмбрионы используются в исследованиях человеческих стволовых клеток [30], регенеративной медицины [11] и др. [24]. Использование эмбрионов в этих целях остается этически спорным, поэтому причины донорства в этом случае разнятся, а само донорство зависит от того, считает человек его приемлемым или нет. В России донорство человеческих эмбрионов для научных исследований законодательно не закреплено и возможно только в крупных научных центрах после утверждения локальными этическими комитетами.
Мотивация суррогатного материнства
Мотивация суррогатного материнства исследована существенно меньше, чем все другие виды мотивов репродуктивного донорства [6], поскольку эта мотивация наиболее подвержена влиянию социальных представлений о допустимости такого поведения [31]. В то же время суррогатное материнство трактуется как «дарение жизни», «сестринство», «миссия» [32]. Следует отметить, что в тех странах, где коммерческое суррогатное материнство запрещено, законы о нем подчеркивают альтруистические мотивы – например, в Великобритании, Греции, Израиле, ЮАР, Индии, Новой Зеландии, большей части штатов Австралии и Канады и в некоторых штатах США [33]. Некоторые женщины считают возможным для себя исключительно альтруистическое суррогатное материнство [34]. Однако в странах, известных как центры суррогатного материнства, например, в Индии, Украине, Таиланде, России, Словении [35], решение потенциальных суррогатных матерей может зависеть от влияния членов семьи, посредников, медиков [36], что «может поставить под вопрос его добровольность» [35]. В отличие от других типов репродуктивного донорства, медики играют важную роль в распространении концепции суррогатного материнства как альтруистической деятельности, ибо именно они «убеждают суррогатных матерей в важности их помощи как бездетным семьям, так и всей нации в ее развитии» [37].
С одной стороны, материальная компенсация, хотя и считается приемлемой причиной для донорства, но не является главной мотивацией для некоторых суррогатных матерей. Женщины, получающие вознаграждение, считают эти деньги неким «даром», поскольку заявляют о главенстве своих альтруистических мотивов [38]. Однако те женщины, чьи возможности на рынке труда ограничены, действительно рассчитывают на компенсацию. Например, в Индии суррогатные матери открыто заявляют о необходимости трудоустройства и рассматривают суррогатное материнство, как работу для обеспечения потребностей своей семьи [22, 37, 39, 40].
Заключение
Современные исследования показали, что при всех типах донорства доноры могут руководствоваться либо одним ведущим мотивом, либо сочетанием нескольких мотивов. Одним из ведущих мотивов донорства гамет, эмбрионов и суррогатного материнства, по мнению зарубежных исследователей, является альтруизм, хотя он и не является единственным мотивационным фактором. Несмотря на то что альтруистическое суррогатное материнство обычно основано на эмпатии, следует учитывать, что решение донора о согласии на суррогатное материнство может быть обусловлено различными социальными факторами. Самое большое разнообразие мотивов связано с безвозмездным (добровольным) донорством. Материальное вознаграждение является другим важным фактором, который стимулирует людей к донорству. Целый ряд исследований направлен на понимание того, как доноры воспринимают вознаграждение за свои услуги – эгоистически или альтруистически.
Во многих исследованиях основной фокус направлен на изучение главной или вторичной мотивации, тогда как конкретные сочетания мотивов становятся объектом изучения достаточно редко. Сочетания мотивов различаются в зависимости от типов донорства, а сами доноры по-разному оценивают свои выгоды или компенсацию, в зависимости от специфики репродуктивного материала. Важной проблемой является изучение изменения мотивации донора, расхождения между желанием выступить донором и реальным донорством. Лишь в небольшом количестве исследований изменение мотиваций доноров и факты отказа от донорства стали предметом изучения.
Понимание мотивации донорства гамет, эмбрионов и суррогатного материнства будет не полным без анализа социо-культурного контекста (законы о донорстве, представлений об инцесте, условий компенсации и др.), поэтому изучение мотивов донорства в современном российском обществе может способствовать решению важной социальной проблемы – проблемы бесплодия.