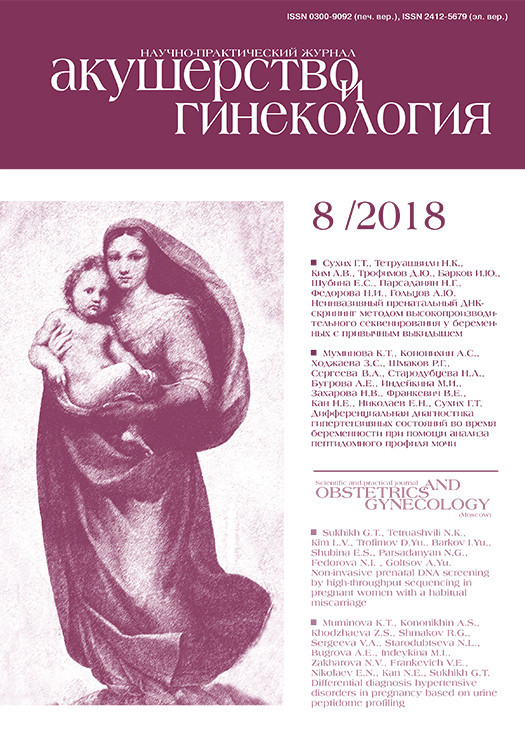Остеопороз – метаболическое заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы, нарушением микроархитектоники костной ткани и, как следствие, переломами при минимальной травме [1, 2]. Остеопороз относится к одной из самых частых болезней стареющей популяции с распространенностью у женщин в постменопаузе от 13–18 до 30% [3]. К остеопоротическим переломам Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает относить те из них, риск или частота которых связаны с низкой костной массой, а частота вырастает после 50 лет [4]. Лечение остеопоротических переломов требует больших материальных затрат. Последствия заболевания для больных и их родственников тяжелы, и трагедия состоит не только в высокой смертности – при переломе шейки бедра от 12 до 40% пациентов умирают в течение первого года [3], но и в инвалидизации у 25% больных.
Как и многие болезни, остеопороз имеет гендерные отличия. У женщин снижение костной массы и перестройка ее микроструктуры, приводящие к повышению ломкости костей, связаны с костной резорбцией и системным дисбалансом кальция, обусловленными эстрогенным дефицитом сопровождающим менопаузу [5, 6]. В противоположность менопаузальному, сенильный остеопороз становится результатом редукции остеогенеза, к которой присоединяются недостаточное поступление кальция, снижение его абсорбции и дисбаланс кальция, обусловленный гиперпаратиреоидизмом.
Несмотря на принципиальные различия в ключевом изменении костного ремоделирования, менопузальный и сенильный остеопороз имеют очевидное патогенетическое сходство, которое заключается в нарушении кальциевого обмена, связанного с недостаточностью витамина D. Биологически активная форма витамина D играет критически важную роль в гомеостазе кальция, костном метаболизме, репродукции, контроле пролиферации и воспаления, иммунном ответе [7].
Гормон D обеспечивает взаимосвязь между костным метаболизмом и гомеостазом кальция [8]. Клинические исследования и экспериментальные наблюдения продемонстрировали, что признаки рахита и остеомаляции устраняются, когда достаточная абсорбция кальция достигается диетическими [9] или генетическими [10–15] средствами. Это указывает на участие гормона D в костном метаболизме через регуляцию абсорбции кальция в кишечнике и контроле фосфатного гомеостаза. В свою очередь, кальцитриол контролирует коллагеновую матрицу костей, определяющую качество костной ткани [16–19]. Принимая во внимание множественные эффекты кальцитриола на кость и кальциевый гомеостаз, нетрудно предположить, что дефицит витамина D играет существенную роль в развитии остеопороза. Для стареющей популяции характерен отрицательный кальциевый баланс, в основе которого лежат низкое потребление кальция, недостаточное поступление витамина D и снижение уровней VDR в кишечнике, в совокупности приводящие к низкой абсорбции кальция, которую у женщин в постменопаузе усугубляет эстрогенный дефицит. Вследствие отрицательного кальциевого баланса повышается резорбция костей и снижается их минерализация [20]. Поскольку абсорбция кальция напрямую зависит от кальцитриола, преодолеть отрицательный кальциевый баланс с помощью исключительно добавок кальция невозможно.
Остеопороз относят к «молчаливым» заболеваниям, в течение долгого времени не причиняющим никаких неудобств пациентам. Первые симптомы остеопороза появляются только при возникновении переломов. Учитывая скудную и позднюю симптоматику остеопороза, женщинам в постменопаузе и мужчинам старше 50 лет [3] рекомендуется оценивать индивидуальную 10-летнюю вероятность низкотравматичного перелома с использованием алгоритма FRAX (fracture risk assessment tool) [21]. Пациентам, которые по результатам расчета попадают выше верхнего порога вмешательства, устанавливается диагноз «Вероятный остеопороз. М 81.8» и фармакотерапия назначается без дополнительного обследования [2]. Пациенты, у которых вероятность переломов находится между нижним и верхним порогом вмешательства, направляются на остеоденситометрию. В обследовании и расчете риска не нуждаются пациенты, уже перенесшие низкотравматичный перелом – диагноз тяжелого остеопороза в таких случаях выставляется клинически [22, 23].
Фармакотерапия остеопороза направлена на решение нескольких клинических задач, главная из которых состоит в предотвращении переломов костей. Лекарственные средства можно условно разделить на три группы по преобладающему механизму действия: 1) препараты, угнетающие костную резорбцию; 2) препараты, стимулирующие костеобразование; 3) препараты многопланового действия [2, 3].
К антирезорбтивным препаратам I линии относятся селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов (СМЭР) – нестероидные агенты, которые взаимодействуют с эстрогеновым рецептором как агонисты или как антагонисты, в зависимости от типа ткани. Применение СМЭР (ралоксифен, базедоксифен) предохраняет от потери МПК и редуцирует риск переломов на 30–50% [24]. Дополнительные полезные свойства СМЭР включают снижение риска рака молочной железы на 60% [25] и положительное влияние на липидный профиль [21], потенциальные осложнения – венозную тромбоэмболию (редко), приливы жара и судорожные сокращения мышц нижних конечностей [26].
Другой вид антирезорбтивной терапии I линии представлен бисфосфонатами [2, 3] – стабильными аналогами пирофосфата, имеющими сильное сродство к апатитам кости. Бисфосфонаты редуцируют частоту переломов позвонков и внепозвоночных переломов на 40–70 и 30–34% соответственно [2, 3, 27]. Профиль безопасности бисфосфонатов в целом благоприятен, но прием оральных бисфосфонатов ассоциирован с желудочно-кишечными расстройствами и эзофагитом (редко), внутривенные аминобисфосфанаты вызывают транзиторную острофазную реакцию с лихорадкой и мышечной болью [28], обсуждается вероятная взаимосвязь применения бисфосфонатов и фибрилляции предсердий [29]. Данные о повышении риска рака пищевода при более чем 5-летнем оральном приеме бисфосфонатов [30], как и факты о снижении смертности от всех причин и онкологической заболеваемости [31], требуют подтверждения.
Антитело против RANKL (деносумаб) предотвращает активацию остеокластов [32] и тем самым у женщин с менопаузальным остеопорозом снижает частоту переломов позвонков на 69%, невертебральных переломов на 20% и переломов бедренной кости на 40% [33]. Побочные эффекты редки, среди тяжелых реакций описан некроз челюсти.
Кальцитонин (II линия терапии) снижает частоту переломов менее значимо по сравнению с другими антирезорбтивными средствами [34], но имеет анальгезирующий эффект, который может быть полезен при острой боли после перелома. Ко II линии терапии относится менопаузальная гормональная терапия (МГТ), которая предпочтительна у женщин в ранней постменопаузе при наличии приливов жара и других симптомов климактерического синдрома [3].
Единственным методом терапии, усиливающим костеообразование, является интермиттирующее введение препарата ПТГ (терипартид) [3]. Терипартид предназначен в первую очередь для больных сенильным остеопорозом и противопоказан при вторичном остеопорозе.
К препаратам многопланового действия относится стронция ранелат, редуцирующий риск переломов позвонков на 35% и внепозвоночных переломов на 38% [35]. Однако стронция ранелат значительно уступает другим средствам терапии остеопороза в соотношении польза/риск и используется редко.
В противоположность стронция ранелату, другой метод терапии с многоплановым действием – активные метаболиты витамина D (альфакальцидол и кальцитриол) – обладает одним из лучших профилей безопасности. Синтетический кальцитриол представляет собой полный аналог гормона D. В отличие от него, альфакальцидол, 1α-гидроксихолекальциферол – синтетический предшественник D-гормона – не образуется в естественных условиях в организме. Его превращение в 1,25(ОН)2D3 происходит в печени под действием 25-гидроксилазы, то есть из цепи превращений исключаются второе гидроксилирование в почках, нередко ухудшающееся с возрастом [36]. В результате достигается эквивалентная биологическая активность кальцитриола и альфакальцидола.
Влияние альфакальцидола на формирование кости было исследовано на моделях остеопороза и переломов костей [37]. В эксперименте альфакальцидол повышает МПК и объем кости в прямой зависимости от дозы [17, 19, 38]. Но даже при использовании минимальной дозы альфакальцидола состав вновь синтезированной костной матрицы становится сравним с нормальной костью по содержанию коллагена [38]. Повышение дозы улучшало организацию и созревание коллагеновой матрицы. Рост экспрессии LOX после применения альфакальцидола поддерживает гипотезу о его прямых позитивных эффектах, поскольку LOX катализирует реакцию, инициирующую процесс сшивания коллагена [38]. Интересно, что моделью экспериментов служили овариэктомированные крысы [17, 38]. Это подчеркивает значимость разрушения коллагеновой матрицы в генезе остеопороза и дополнительно обосновывает использование активных метаболитов витамина D в его терапии.
Терапия альфакальцидолом положительно влияет на минеральную плотность кости (МПК) и биохимические маркеры. В недавнем исследовании прием альфакальцидола в суточной дозе 0,5 мкг женщинами с постменопаузальным остеопорозом в течение одного года сопровождалось достоверным повышением МПК на 2,2% в поясничном отделе позвоночника и на 1,8% в проксимальном отделе бедра, снижением уровней остеокальцина сыворотки крови на 25,8% [39]. При сравнении альфакальцидола и кальцитриола принципиальных отличий в эффективности активных метаболитов витамина D по отношению к росту МПК не получено.
Результаты исследований влияния активных метаболитов витамина D на риск переломов подтверждают целесообразность их применения. Суммарная оценка эффективности препаратов показала снижение риска переломов любых локализаций по сравнению с контролем (относительный риск (ОР) 0,52; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,46–0,59) [40]. Однако существенная редукция частоты переломов позвонков (OР 0,50; 95% ДИ 0,25–0,98) отмечалась при использовании альфакальцидола, но не кальцитриола. Редукция невертебральных переломов характеризовала оба препарата и была достоверной (OР 0,51; 95% ДИ 0,30–0,88) [40].
Терапию остеопороза активными метаболитами витамина D нельзя отождествлять с применением нативного витамина D, призванного восполнять недостающее поступление кальциферола в организм с целью профилактики остеопороза [3, 41]. Ряд обстоятельств определяют такое разграничение в областях применения разных форм витамина D.
Преимуществом альфакальцидола перед препаратами нативного витамина D является одноступенчатая метаболизация первого только в печени, что особенно важно у пациентов с возрастным снижением функции почек. В сравнительных исследованиях среди женщин с менопаузальным остеопорозом применение альфакальцидола было достоверно эффективнее, чем прием витамина D с кальцием: разница составила 13,4% (95% ДИ 7,7–19,8) для переломов позвонков и 6% (95% ДИ 1–12) для внепозвоночных переломов [42]. Сравнение эффективности комбинированной терапии деносумабом и активным метаболитом витамина D выявило существенные преимущества перед лечением деносумабом и нативным витамином D [43].
Безусловно, в контексте лечения дефицита витамина D можно обсуждать целый ряд преимуществ и недостатков холекальциферола и 1α-гидроксихолекальциферола. Нативный витамин D широко используется в этой области, хотя применение альфакальцидола также можно обсуждать при тяжелых формах дефицита [41]. Но когда речь идет об остеопорозе, следует помнить, что холекальциферол и его комбинация с кальцием не относятся к методам терапии и применяются только с профилактической целью как пищевые добавки в пределах суточной потребности. Альфакальцидол, напротив, является средством терапии остеопороза, причем универсальность и многоплановость действия позволяет применять его и при менопузальном, и при сенильном остеопорозе. В соответствии с существующими рекомендациями суточная доза альфакальцидола для терапии остеопороза составляет 0,5–1,0 мкг [44]. Побочные эффекты терапии – гиперкальциемия и гиперкальциурия – встречаются редко и являются дозозависимыми [40]. Длительная гиперкальцемия нежелательна, поэтому при использовании метаболитов витамина D рекомендуется контролировать уровень содержания кальция в крови и не назначать дополнительно кальциевых добавок с пищей.
В клинической практике лекарственные средства разных групп могут применяться совместно. Альфакальцидол комбинируется с большинством антирезорбтивных препаратов, дополняя их действие [43]. Экспериментальные модели остеопороза позволяют оценить эффекты различных комбинаций, среди которых наиболее изучено самое популярное в клинической практике сочетание альфакальцидола и бисфосфонатов [45]. Результаты исследований показали, что терапия альфакальцидолом и ризедронатом в субтерапевтических дозах более эффективна, чем монотерапия каждым препаратом в средней терапевтической дозе. В супрессии костной резорбции и улучшении микроструктурных параметров эффекты альфакальцидола и ризедроната осуществлялись независимо и дополняли друг друга. Указанные изменения в равной степени характеризовали как позвоночник, так и бедренную кость [45]. Комбинированная терапия нормализовала экскрецию кальция, что предполагает улучшение кальциевого метаболизма при ее проведении.
Уникальным свойством метаболитов витамина D является прямое действие на мышечную силу, которое определяет снижение частоты падений у пожилых лиц. Это действие обусловлено эффектами витамина D в отношении клеток скелетных мышц [46]: влияние на клеточную пролиферацию и дифференцировку, транспорт кальция и фосфата через клеточные мембраны, подавление экспрессии миостатина – отрицательного регулятора мышечной массы, повышение экспрессии фоллистатина и инсулиноподобного фактора роста 2, индукция экспрессии множества миогенных транскрипционных факторов, предохранение от дегенерации мышц и купирование миалгии. Коль скоро мышца является тканью-мишенью для витамина D, его дефицит обсуждается в рамках повышения риска падений и последующих переломов у пожилых людей. В мета-анализе 26 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), включивших 45 782 участника [47], использование лекарственных форм витамина D, в том числе, активных метаболитов, было связано со статистически значимым снижением риска падений (ОР 0,86; 95% ДИ 0,77–0,96). Эффект был более существенным у лиц с исходным дефицитом витамина D [48]. В другом мета-анализе, включившем 8 РКИ [48], редукция риска падений наблюдалась при использовании нативного витамина D в дозе более 700 МЕ или активных метаболитов витамина D в принятых терапевтических дозах. Максимальный риск был отмечен при уровне витамина D в сыворотке крови менее 30 нмоль/л, минимальный – при значении 25(OH D3 выше 60 нмоль/л [49].
Альфакальцидол является активной субстанцией лекарственного средства альфа Д3-Тева. Среди показаний к применению капсул альфа Д3-Тева: остеопороз, в том числе менопаузальный, сенильный и стероидный; остеодистрофия при хронической почечной недостаточности; гипопаратиреоз и псевдогипопаратиреоз; рахит и остеомаляция, связанные с недостаточностью питания или всасывания, и др. Препарат разрешен к применению с трехлетнего возраста и имеет ограниченное число противопоказаний (гиперкальциемия, гиперфосфатемия, гипермагниемия, гипервитаминоз D, беременность и период грудного вскармливания). Терапия в рекомендованных суточных дозах может продолжаться от 2–3 месяцев до 1 года и более. Продолжительность лечения определяется врачом для каждого пациента индивидуально.
Заключение
Интерес к терапии активными метаболитами витамина D не случаен. Остеопороз относится к междисциплинарным заболеваниям, и вопросы лечения женщин с менопаузальным остеопорозом часто приходится решать гинекологу. Но диагностика и терапия остеопороза достаточно сложны. У каждого диагностического и лечебного метода есть свои преимущества и ограничения, а у каждого специалиста – своя область знаний по интерпретации анализов и назначению лекарственных средств. Гинеколог не сможет разобраться с диагностикой и лечением сенильного остеопороза, а ревматолог не имеет права рекомендовать МГТ. Но для назначения лекарственных форм витамина D не требуется высокого уровня специализации, а между тем этот вид терапии остеопороза и профилактики остеопоретических переломов доказал свою эффективность. Альфакальцидол в ряде случаев, например, у пациентов с заболеваниями почек, признается ведущим методом терапии. При остеопорозе в целом он относится к терапии II линии, но при этом отлично сочетается с антирезорбтивной терапией, дополняя ее действие. Альфакальцидол применяется при любых формах первичного и вторичного остеопороза, что существенно облегчает задачу подбора терапии в сложных диагностических ситуациях. Учитывая нарастающую распространенность дефицита витамина D и остеопороза, врачи всех специальностей, в том числе гинекологи должны иметь в виду возможность включения активных метаболитов витамина D в схемы лечения этого заболевания и профилактики его последствий.