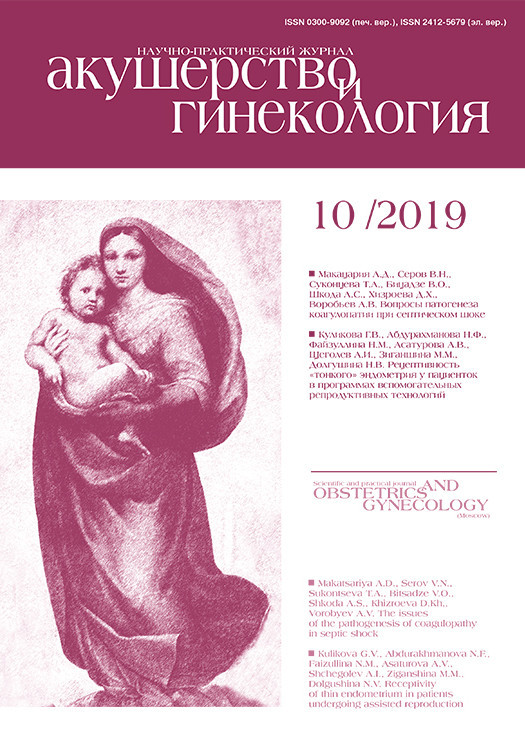Отличие профессиональных рисков для здоровья работающих женщин – это биологически обусловленная особенная чувствительность репродуктивной системы к воздействию токсических веществ. По данным Росстата, из 37 166 работающих женщин у 25% условия труда квалифицируются как неблагоприятные. При этом 5,2% женщин работают в условиях с неблагоприятным воздействием химических факторов [1, 2]. Экспозиция промышленных ядов представляет риск для здоровья как самой работающей, так и будущих поколений. Для совершенствования методов профилактики необходимо понимание биомеханизмов действия токсических веществ на репродуктивную систему. Определение молекулярных маркеров нарушения адаптации к условиям воздействия промышленных ядов позволит прогнозировать неблагоприятное влияние производственной среды на репродуктивное здоровье, своевременно рекомендовать рациональное трудоустройство и предотвратить развитие заболеваний [3–5]. Такой подход соответствует современной парадигме здоровьесбережения, которая заключается в управлении профессиональным риском здоровью.
В статье представлен анализ собственных завершенных исследований авторов и обзор литературы. Поиск научной литературы проводили по базам данных eLYBRARY, PubMed, Embase по ключевым словам «профессиональный риск», «репродуктивное здоровье», «репродуктивные токсиканты». В обзор включали результаты проспективных когортных, ретроспективных исследований, исследований случай-контроль, систематических обзоров, крупных метаанализов, а также экспериментальные исследования патогенетических механизмов на животных моделях, опубликованные в период с января 2009 по январь 2019 гг.
Биомеханизмы действия репродуктивных токсикантов
В настоящее время 69 соединений, воздействующих на человека на рабочем месте, официально отнесены к категории вредных и/или опасных для репродуктивного здоровья (приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, ред. от 06.02.2018). Наиболее опасными являются дибутилфталат, трикрезилфосфат, N, N-диметилформамид – акриламид, N-гидроксиметиламид, 4-хлорнитробензол, 2-бутоксиэтанол, щавелевая кислота, бисфенол А, этиленгликоль [5]. В качестве основных механизмов действия репродуктивных токсикантов рассматривают нарушение эндокринной регуляции, цитотоксическое, мутагенное действия, индукцию оксидативного стресса [5, 6].
Группа «эндокринных разрушителей» включает большое число соединений, в том числе бис-фенол А, пестициды, диоксины, полициклические ароматические углеводороды, полихлорированные бифенилы. За счет частичного структурного сходства с эстрогенами, андрогенами или тиреоидными гормонами эти вещества связываются с соответствующими рецепторами на клетках, блокируют или, наоборот, вызывают их дополнительную стимуляцию. В результате нарушается эндокринная регуляция репродуктивной функции [6, 7]. Индуцированная репродуктивными токсикантами дисфункция гипоталамо-гипофизарной системы и половых желез проявляется нарушениями овариально-менструального цикла, бесплодием, невынашиванием беременности, нарушением лактации, снижением эффективности программ вспомогательных репродуктивных технологий [6–9].
Цитотоксическим, мутагенным и эмбриотоксическим действиями обладают ароматические углеводороды, бензин, ацетон, эпоксидные смолы, тяжелые металлы, сероуглерод, формальдегид и другие вещества [9]. Прямое токсическое действие на яичники с повреждением яйцеклеток приводит к развитию ранней менопаузы [7, 10]. Химические вещества, обладающие мутагенным эффектом, вызывают генетические аномалии и тяжелые пороки развития плода. Эпигенетические нарушения – изменение функции аппарата ДНК под влиянием ксенобиотиков могут как влиять на фертильность, так и передаваться последующим поколениям [11].
Эмбриотоксическое действие (влияние химикатов на исходно здоровый плод) проявляется различными нарушениями – от низкой массы тела при рождении до тяжелых врожденных аномалий развития и мертворождения. Ксенобиотики оказывают разнонаправленное воздействие на развивающийся плод. Возможны прямое повреждающее действие на клетки, дисрегуляция процессов апоптоза с нарушением роста и развития органов. Опосредованное влияние заключается в индукции воспаления, активации окислительных реакций и снижении активности антиоксидантной системы у самого плода или у матери [6, 12–14]. Результат взаимодействия с токсикантом зависит и от генетически детерминированной активности детоксикационных и антиоксидантных систем матери [15–17]. Критическими периодами внутриутробного развития, когда эмбрион наиболее чувствителен к воздействию экзогенных ядов, являются сроки 8 дней–8 недель гестации. В это время происходит закладка основных органов и систем, и воздействие ксенобиотиков приводит к наиболее тяжелым последствиям [4]. Воздействие химических веществ в эмбриональном периоде ассоциировано с состоянием здоровья в детском и подростковом возрасте, а, возможно, и в течение всей жизни [14]. Так, повышение концентрации таллия в пуповинной крови ассоциировано со снижением массы тела и роста ребенка в возрасте 2 лет [18], экспозиция фторидов – с развитием когнитивных функций в 6–12 лет [19]. Воздействие в III триместре беременности полициклических ароматических углеводородов, мышьяка, бензина увеличивает риск развития в детском возрасте острого лимфобластного лейкоза, воздействие бензина, хлора – риск острого миелобластного лейкоза [20].
При воздействии на респираторную систему матери частиц пылей, паров, туманов, дымов индуцируются системное воспаление и оксидативный/ нитрозативный стресс. В проспективном когортном исследовании ENVIRONAGE было определено, что увеличение ежедневной экспозиции РМ2,5 на квартиль во время беременности ассоциировано с увеличением содержания в ткани плаценты 3-нитротирозина – маркера окислительного стресса [21]. Активные формы кислорода вызывают повреждение ДНК, вмешиваются в процессы метилирования ДНК, что приводит к генетическим заболеваниям и порокам развития плода [22]. Окисленные продукты влияют и на эндокринную регуляцию. Системное воспаление (повышение концентраций интерлейкинов-1β, -6, -10, фактора некроза опухолей альфа (ФНО-α) увеличивает тонус матки, нарушает фетоплацентарное кровообращение [23]. Воздействие частиц РМ2,5 в составе промышленных аэрозолей или при загрязнении воздуха городской среды способствует задержке внутриутробного развития плода и низкой массе тела новорожденного, увеличивает вероятность преждевременных родов и внутриутробной гибели плода [8, 24–26].
Помимо непосредственного влияния на зачатие и вынашивание беременности, репротоксиканты вызывают другие заболевания гинекологической сферы, что снижает репродуктивный потенциал. Эстрогеноподобные соединения рассматриваются в качестве этиологических и патогенетических факторов эндометриоза [8]. Токсичные вещества способствуют развитию воспалительных заболеваний органов малого таза, обладают канцерогенным действием [27, 28]. Согласно данным МАИР, профессиональными канцерогенами для органов малого таза и молочной железы являются асбест (факторы с доказанной канцерогенной активностью), этиленоксид, полихлорированные бифенилы (факторы с ограниченной доказанностью канцерогенности) [28].
Технический прогресс неизбежно сопровождается появлением новых профессиональных рисков здоровью. Частицы наноразмерного диапазона (менее 100 нм в диаметре) входят в состав любого промышленного аэрозоля, но в условиях современного производства возросла интенсивность нагрузки инженерными наночастицами, обладающими новыми свойствами. Влияние наночастиц на организм работающих все еще малоизучено. В последние годы опубликованы результаты исследований, показавшие возможность их неблагоприятного воздействия на исход беременности и родов. Частицы такого размера попадают в системный кровоток матери, проходят через фетоплацентарный барьер и напрямую индуцируют воспалительный ответ в тканях плода. Одновременно наночастицы формируют системное воспаление и оксидативный стресс в организме матери, что также влияет на плод [29, 30]. Результаты исследований животных моделей противоречивы – некоторые авторы сообщают об отсутствии влияния на течение беременности, другие наблюдали задержку развития плода и морфологические аномалии [31]. Данные эпидемиологических исследований также немногочисленны. Наблюдение 11 224 женщин когорты ELFE, из которых 569 во время беременности работали в условиях воздействия наночастиц, выявило риск низкой массы тела ребенка при рождении; отношение шансов (ОШ), поправленное на традиционные факторы риска, 1,63, 95% доверительный интервал (ДИ) 1,22–2,18 [32].
Доказательства влияния воздействия химических веществ на репродуктивное здоровье на основании данных эпидемиологических исследований
Результаты крупных эпидемиологических исследований и метаанализов показали достоверную ассоциацию загрязнения воздуха частицами либо химическими веществами с развитием репродуктивных нарушений.
Наблюдение исходов 1 374 875 беременностей с одновременным мониторингом качества воздуха показало, что увеличение концентрации РМ2,5 на 10 мкг/м3 увеличивает риск низкой массы тела при рождении на 3% (ОШ 1,030; 95% ДИ 1,022–1,037) в случае воздействия в течение всего периода гестации, на 1,8% – при воздействии в течение I триместра (ОШ 1,018; 95% ДИ 1,013–1,022), на 1,2% – в течение II триместра (ОШ 1,012; 95% ДИ 1,007–1,017) и на 0,9% – в течение III триместра (ОШ 1,009; 95% ДИ 1,005–1,014) [33]. Метаанализ 23 эпидемиологических исследований выявил увеличение риска низкой массы тела при рождении на 3% при увеличении концентрации РМ2,5 в воздухе в зоне проживания беременной на квартиль [34]. Ретроспективное исследование (n=81 840) определило увеличение риска преждевременных родов на 4% при увеличении экспозиции РМ2,5 на 2 мкг/м3 [24].
В когортном исследовании (n=95 911) увеличение концентрации РМ2,5 на 5 мкг/м3 было ассоциировано с увеличением риска преждевременных родов на 3% (ОШ 1,03, 95% ДИ 1,02–1,05), увеличение концентрации РМ10 – на 15% (ОР 1,15; 95% ДИ 1,11–1,19) [35]. Проспективное когортное исследование (n=95 354) выявило ассоциацию загрязнения воздуха PM2,5 и РМ10 с вероятностью внутриутробной гибели плода. Увеличение концентрации РМ2,5 на 10 мкг/м3 увеличивало риск на 12% (ОШ 1,12; 95% ДИ 1,07–1,19), РМ10 – на 8% (ОШ 1,08; 95% ДИ 1,04–1,11). При этом критическим периодом беременности для воздействия загрязнения воздуха на риск внутриутробной гибели плода был III триместр [36].
Исследования, проведенные ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», доказали неблагоприятное влияние на репродуктивную функцию условий труда ряда рабочих мест. У женщин – контролеров машиностроительных предприятий повышен риск самопроизвольного прерывания беременности (ОШ 3,24; 95% ДИ 1,06–9,90). Оценка заболеваемости женщин – машинистов крана металлургического предприятия определила профессиональную обусловленность угрожающего самопроизвольного выкидыша в I триместре беременности (ОР 15,5; 95% ДИ 8,0–30,1, этиологическая доля 68,9%), раннего гестоза (ОШ 3,84; 95% ДИ 1,8–7,8, этиологическая доля 63%), хронической внутриутробной гипоксии плода (ОР 7,09; 95% ДИ 3,12–16,09, этиологическая доля 79,3%), внутриутробной задержки развития плода (ОШ 7,33; 95% ДИ 2,2–23,6, этиологическая доля 83,5%). Исследование медицинских работников – врачей и медицинских сестер хирургических отделений выявило повышенный риск нарушений менструального цикла, угрожающего самопроизвольного прерывания беременности, гестозов [37]. Вероятность осложнений беременности у литейщиц, экструзионщиц, прессовщиц полимерперерабатывающей промышленности в 2,5 раза выше, чем в общей популяции (ОШ 2,47;95% ДИ 1,84–3,30, этиологическая доля 59,4% [27].
Ассоциация экспозиции хлорорганических соединений и заболеваемости эндометриозом была показана в метаанализе 23 исследований, включившем данные 3331 пациенток (1135 больных эндометриозом). Для диоксинов: ОШ 1,65, 95% ДИ 1,14–2,39, для полихлорированного бифенила: ОШ 1,70, 95% ДИ 1,20–2,39, для хлорорганических пестицидов: ОШ 1,23, 95% ДИ 1,13–1,36 [38]. Когортное исследование 473 женщин, больных эндометриозом, подтвержденным гистологическим исследованием, и 130 женщин контрольной группы выявило ассоциацию эндометриоза и экскреции с мочой хрома и меди. После математической поправки на традиционные факторы риска для хрома: ОШ 1,97, 95% ДИ 1,21–3,19, для меди: ОШ 2,66, 95% ДИ 1,26–5,64 [39]. Риск эндометриоза при экспозиции перфторалкилов – перфтороктановой и перфторнонановой кислот определен в когортном исследовании 495 больных и 130 женщин группы контроля. ОШ для перфтороктановой кислоты 1,89, 95% ДИ 1,17–3,06, для перфторнонановой кислоты – ОШ 2,2; 95% ДИ 1,02–4,75 [40]. Распространенность эндометриоза у женщин маляров, подвергавшихся на рабочем месте воздействию органических растворителей (n=142), составила 37,8% в сравнении с 26,6% группы контроля (χ2=6,2; р<0,05) [41].
Сведения о заболеваемости профессиональными новообразованиями урогенитальной сферы ограничены сложностью каузации конкретных случаев в практическом здравоохранении. По данным Новосибирского центра профпатологии, среди 1396 пациенток, работавших на предприятии атомной промышленности в 1957–2000 гг., злокачественные новообразования (ЗНО) репродуктивной системы выявлены у 60 (4,3%) женщин. При этом в группе экспонированных к соединениям урана данные опухоли обнаружены в 66,7% случаев; тогда как в цехе, где был контакт с комплексами ртути, лития и хлора, – в 5,0 %; в цехах вспомогательного производства – в 28,3%. В структуре ЗНО репродуктивной системы преобладали рак шейки и тела матки (40,0 и 35,0% соответственно), реже диагностированы карциномы яичников (25,0%). Сравнение распространенности ЗНО среди женщин, имевших производственный контакт с соединениями урана, и пациенток, работавших в этот же период в цехах вспомогательных производств, показал преобладание у первых рака шейки матки в 1,8 раза, рака тела матки – в 4,0 раза и рака яичников – в 2,0 раза [42].
С риском воспалительных заболеваний органов малого таза ассоциирована работа модельщиц или контролеров машиностроительного производства – ОШ 4,67; 95% ДИ 1,31–16,459 и ОР 3,45; 95% ДИ 1,13–10,55 соответственно. Повышенный риск имеют также лаборанты химического анализа и инженеры-химики предприятия нефтепереработки – ОШ 2,1; 95% ДИ 1,14–3,79 [37].
Биологические маркеры воздействия репродуктивных токсикантов
Еще в ранних работах отечественных гигиенистов и профпатологов воздействие токсичных веществ рассматривали как хронический стрессор, вызывающий напряжение систем адаптации [43, 44]. В настоящее время эта теория активно развивается в работах Сибирской школы профпатологов. В качестве перспективных биомаркеров исследуются окисленные продукты и молекулы системы антиоксидантной защиты, белки воспаления, эндотелиальные факторы [45–47]. Диагностика на основе биомаркеров представляет возможность выявления ранних признаков дезадаптации к воздействию токсичных веществ, предшествующих развитию хронических интоксикаций. Определение пациенток высокого риска позволит своевременно рекомендовать рациональное трудоустройство.
Многие репротоксиканты являются ядами политропного действия, и признаки гемато-, гепато-, нефротоксического действия могут свидетельствовать о риске нарушения репродуктивной функции. Так, в работах Шпагиной Л.А. [45] было доказано, что некоторые особенности течения железодефицитных анемий свидетельствуют о развитии заболевания в условиях воздействия органических растворителей. Проведено проспективное когортное исследование 483 женщин – маляров самолетостроительного предприятия. Основными вредными факторами производственной среды были органические растворители. Пиковая концентрация ксилола, толуола, бензина, ацетона, бутилацетата, уайт-спирита в воздухе рабочей зоны превышала предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 2,5–6 раз, среднесменные концентрации соответствовали ПДК, стаж работы большинства (76,4%) обследованных был более 6 лет. Железодефицитные анемии выявлены у 36,4% женщин и отличались исчезновением гипохромии и микроцитоза эритроцитов, снижением регенерации эритроидного ростка, функции трансферрина, перераспределением железа с увеличением тканевого пула (маркер – ферритин). Выявлен мембранотоксический эффект органических растворителей, проявляющийся увеличением размеров эритроцита, снижением осмотической резистентности, дефицитом липидного компонента (увеличение жесткости мембраны) [45].
Неспецифические гематологические маркеры характерны для раннего периода контакта с различными промышленными ядами и включают транзиторные лейкопению или лейкоцитоз, эозинофилопению, лимфопению, ретикулоцитоз, качественные изменения в клетках крови (анизоцитоз, пойкилоцитоз, изменение диаметра эритроцитов, гиперсегментацию сегментоядерных нейтрофилов) [46]. Гипо- и апластические состояния – признак воздействия бензола, хлордихлорбензола, гексахлорциклогексана, стирола, этиленоксида, гемолиз развиваются при токсическом воздействии фенилгидразина, свинца, мышьяковистого водорода [46, 48]. Цитопении наблюдают при хронической урановой интоксикации [42].
Хорошо известны маркеры начинающейся интоксикации свинцом – появление в моче дельтааминолевулиновой кислоты, порфиринов и ретикулоцитоз крови. Железоперераспределительная анемия у контактирующих со свинцом свидетельствует о поздней диагностике интоксикации и в настоящее время практически не встречается [49].
Требует внимания и включение в группу риска профзаболеваний пациенток с транзиторными или стойкими признаками возможного гепатотоксического действия промышленных ядов – повышением стандартных биохимических маркеров, таких как трансаминазы, билирубин, гаммаглутамилтранспептидаза, снижением белково-синтетической и детоксикационной функции печени [45].
Для некоторых веществ и/или их метаболитов доступно прямое измерение в биологических жидкостях. Так, в моче и крови могут быть обнаружены тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк), фталаты, бисфенол А, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и моногидрокси-ПАУ. Повышение концентрации сверх установленных лимитов – фактор риска интоксикации, но может быть и следствием только факта экспозиции, без развития патологического процесса, что ограничивает диагностическую значимость [46, 49].
Изменение концентрации половых гормонов можно считать маркером воздействия эндокринных разрушителей. В центре профпатологии г. Новосибирска проведено одномоментное когортное исследование 142 женщин – маляров предприятия авиастроения, экспонированных к органическим растворителям с превышением ПДК в течение пяти лет и более, из них 37 – с установленным диагнозом хронической интоксикации органическими растворителями. Был выявлен выраженный дисбаланс гипофизарно-овариальной и гипофизарно-тиреоидной систем у экспонированных лиц, тяжесть которых усугублялась при развитии хронической интоксикации. Уровень фолликулостимулирующего гормона по сравнению с группой женщин без профвредностей был увеличен в 1,2 раза, лютеинизирующего гормона – в 1,6 раза, эстрадиола – в 2 раза. У больных с хронической интоксикацией органическими растворителями и нарушениями овариально-менструального цикла выявлено повышение тиреотропного гормона (субклинический гипотиреоз) и антител к тиреопероксидазе [41]. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности скринингового гормонального исследования женщин, работающих в условиях воздействия органических растворителей, при стаже более пяти лет.
По результатам исследования 865 женщин репродуктивного возраста предложены дополнительные диагностические критерии воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин с анемией: средний корпускулярный объем эритроцитов, среднее корпускулярное содержание гемоглобина, уровень сывороточного ферритина, эритропоэтина, концентрации растворимых трансферриновых рецепторов, индекс стимуляции нейтрофилов, коэффициент соотношения про- и антиоксидантной активности сыворотки крови, сывороточные концентрации интерлейкина-4, а также соотношения сывороточных концентраций интерлейкина-1β и интерлейкина-4, ФНО-α и интерлейкина-4 [50].
Таким образом, дальнейшие разработки в области биомаркерной диагностики являются перспективным направлением совершенствования управления рисками репродуктивному здоровью работающих женщин.
Заключение
В условиях современного производства риск для здоровья работающих женщин все еще остается достаточно высоким. Вместе с тем совершенствуются методы управления рисками. Интегрированный пациентоориентированный подход к профилактике, включая качественное проведение медицинских осмотров, консультирование по вопросам репродуктивного здоровья, доступность специализированной медицинской помощи, представляет возможность снизить вероятность развития профессионально обусловленной патологии.