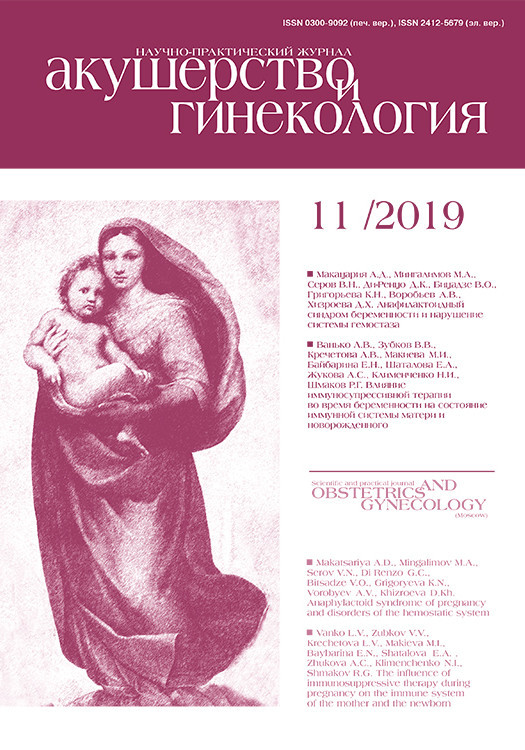Раннее материнство в России существует с давних времен. Его распространенность на протяжении многих столетий была связана, прежде всего, с возрастом вступления в брак. Рост подростковых беременностей наблюдается с середины XX в., но особенно этот процесс интенсифицировался в 1990-х гг. в связи с кардинальной сменой общественных норм и ценностей, изменением отношения к женщинам и детям, обесцениванием их социальной значимости [1].
Приоритет охраны здоровья детей и женщин в период беременности и родов является ведущим принципом охраны здоровья населения Российской Федерации [2]. По оценке Росстата, численность детей и подростков в Российской Федерации на 1 января 2018 г. в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в России, — 29 млн 980 тыс. человек, в том числе 7 млн 597 тыс. – 10–14 лет; 4 млн 163 тыс. – 15–17 лет [3].
Эпидемиология
Одной из главных задач государства является обеспечение реализации и сохранения репродуктивной функции женщин, особой группой среди которых являются несовершеннолетние беременные, подрастающее поколение будущих матерей [4]. Возраст женщины оказывает существенное влияние на течение беременности, родов и состояние плода [5]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оптимальный возраст для рождения ребенка – это промежуток от 20 до 30 лет. Как ранние (до 19 лет), так и поздние (старше 35 лет) роды чаще оказывают неблагоприятное влияние на состояние здоровья женщины и ребенка [6–8].
Единого мнения в определении возрастных границ, соответствующих понятию «юная первородящая», на сегодняшний день нет. Юными в России могут быть названы беременные, не достигшие половой зрелости, их паспортный возраст колеблется от 12 до 17 лет (подростки) [9, 10]. ВОЗ характеризует подростков в возрасте от 10 до 19 лет [11].
Проблема ювенильного акушерства остается крайне актуальной для современной медицины и изучается во всем мире. Согласно данным ВОЗ, в мире уровень рождаемости среди подростков в 2018 г. составил 44 на 1000 девочек-подростков в возрасте 15–19 лет. В России коэффициент рождаемости среди подростков – 24 на 1000 девушек в возрасте 15–19 лет [12].
Юное материнство становится обычным явлением для России. В начале 2000-х гг. роды у несовершеннолетних наблюдались в 1,8–4,9% от общего их количества. В наши дни, когда сексуальный дебют подростков приходится в среднем на 15-летний возраст, процент родов среди юных женщин, несомненно, выше. Ежегодно на девушек 15–19 лет приходится более 10% родов и более 20% болезней, вызванных беременностью и родами [13, 14].
Сохранение репродуктивного здоровья детей и подростков относится к числу приоритетных задач здравоохранения как в России, так и за рубежом, поскольку девочки и подростки образуют резерв воспроизводства населения любой страны мира [15]. Несовершеннолетний возраст представляет собой один из важнейших этапов становления репродуктивной и нейроэндокринной систем, что обусловливает высокую частоту развития осложнений и неблагоприятных исходов беременности. Именно подростковый период — болевая точка российской репродуктологии. Чтобы беременность наступала в здоровой репродуктивной системе, начинать заботиться о ее сохранности следует до начала половой жизни [16].
Структура заболеваемости подростков
Многочисленные исследования последних лет активно указывают на резкое снижение доли абсолютно здоровых девочек, причем данная тенденция характеризует как общую, так и гинекологическую заболеваемость. Значительная часть подростков имеют метаболические нарушения, вредные привычки и ранний сексуальный опыт. В структуре гинекологической заболеваемости девушек в пубертатном периоде лидируют различные нарушения менструальной функции (60,7%), в том числе альгодисменорея (19,4%), олигоменорея (13,6%), нерегулярные менструации (10,3%), аменорея (8,7%), гиперполименорея (6,2%), ювенильные маточные кровотечения (2,5%). Воспалительные заболевания женских половых органов встречаются у 19,4% девушек, из которых 9,1% составляют вульвовагиниты: неспецифический (4,5%) и специфический (9,1%) – хламидиозный (5%), кандидозный (3,7%), гонорейный (0,4%), а также воспалительные заболевания верхнего отдела половых органов (5,8%). Основной причиной воспалительных заболеваний являются инфекции, передаваемые половым путем [17, 18].
Структура осложнений беременности и родов юных матерей
Беременность в период становления репродуктивной функции отличается опасностью неблагоприятного исхода как для матери, так и для плода, так как растущий плод и по-прежнему растущий организм матери конкурируют за питательные вещества. Вероятность осложнений у женщин подросткового возраста составляет от 30 до 88% [19, 20].
При этом необходимо отметить, что беременность у юных женщин является проблемой не только медицинской, но и психологической, социальной. Молодые матери испытывают сильное моральное давление общества, так как зачастую беременность в юном возрасте расценивается как признак асоциального поведения. К основным психосоциальным проблемам подростковой беременности относятся: невозможность получения полноценного образования, бедность, ограниченные профессиональные возможности, воспитание ребенка в неполной семье [21, 22].
В настоящий момент, по данным литературы, существуют различные мнения по вопросу, насколько благоприятно протекают беременность и роды у несовершеннолетних в своей возрастной категории.
Структура осложнений беременности и родов в России 90-х гг. XX в. и начала второго десятилетия XXI в. имеет определенные различия. Обращает на себя внимание рост соматической патологии юных первородящих в сравниваемых временных промежутках, что может быть связано с общим ухудшением здоровья населения за последние десятилетия.
Так, если в 1990-х гг. наиболее часто встречались заболевания мочевыделительной системы (около 37%), эндокринные и обменные нарушения (27–30%), болезни сердечно-сосудистой системы (25–28%), то в настоящее время превалируют заболевания желудочно-кишечного тракта и печени (25,4%), болезни кожи (9,4%), болезни органов дыхания (8,2%), органов зрения (5,6 %), костной системы (4,2%) и неврологическая патология (1,6%).
Частота осложнений беременности у юных примерно одинаковая в рассматриваемые временные промежутки (87±2%), однако ее структура имеет различия. В настоящее время в 2 раза чаще наблюдается развитие раннего токсикоза – 34%, фетоплацентарной недостаточности с исходом в синдром задержки роста плода (ЗРП) различной степени – 32%, железодефицитные анемии – 64%.
Стабильно высокой остается частота преждевременного разрыва плодных оболочек (23–24%), аномалий родовой деятельности (15–20%), преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (1,5%).
К настоящему времени отмечается значительное снижение родового травматизма у юных первородящих – с 75% в 90 гг. XX века до 22% на 2017 г., в основном за счет увеличения частоты абдоминального родоразрешения – с 5 до 20% соответственно. Основными показаниями к абдоминальному родоразрешению остаются: упорная слабость родовой деятельности, неправильное членорасположение плода, острая гипоксия плода и его крупные размеры [23–27].
Отличительные характеристики беременности и родов подростков и женщин оптимального репродуктивного возраста
В литературе имеются исследования, касающиеся сравнения юных первородящих с пациентками оптимального репродуктивного возраста. Более раннее начало половой жизни у юных женщин, приводящее к наступлению беременности, и высокий инфекционный индекс (мочеполовые инфекции и инфекции, передающиеся половым путем) связаны с отсутствием сексуального образования и знаний о способах контрацепции. Одинаково часто у данной категории пациенток встречаются: анемия, заболевания мочеполовой системы, вегетососудистая дистония. У женщин оптимального репродуктивного возраста преобладает соматическая патология в виде заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения жирового обмена, болезней печени и желчевыводящих путей.
У юных пациенток беременность чаще осложняется ранним токсикозом, угрозой прерывания на разных сроках и преэклампсией различной степени.
У юных чаще происходят роды через естественные пути – в 73% случаев против 54% у пациенток оптимального репродуктивного возраста. Частота оперативного родоразрешения статистически значимо выше у женщин оптимального репродуктивного периода – 60%, что в 2,2 раза чаще, чем у юных, − 27% [28–33].
В литературе встречаются работы, направленные на изучение патогенеза фетоплацентарной недостаточности, социальных и психологических аспектов у юных первородящих. Однако в имеющихся публикациях отсутствует единый подход к критериям включения и невключения в исследование, оцениваемым параметрам. Кроме того, в большинстве исследований группой сравнения являются женщины старшего репродуктивного возраста, что не позволяет установить причинно-следственные связи различного течения гестационного процесса у юных.
Роль антиоксидантной системы в формировании осложнений течения беременности и родов
Вынашивание беременности в юном возрасте является серьезным испытанием, так как беременность и роды протекают в условиях функциональной незрелости организма, неадекватности адаптационных механизмов. Стресс и психологический кризис являются механизмами, с помощью которых происходит адаптация, но в зависимости от индивидуально-личностных особенностей человека, то есть адаптационного личностного потенциала, преодоление этих состояний будет идти с разной степенью успешности [34].
Характерное для беременности состояние оксидативного стресса, основой которого является увеличение активности митохондрий плаценты и чрезмерная продукция активных форм кислорода, особенно супероксидного анион-радикала, оказывает крайне негативное влияние на организм в целом и на течение беременности. Наряду с эндогенными источниками повреждающих агентов, существуют факторы внешней среды, проникающие в организм и провоцирующие усиление оксидативного стресса, приводя тем самым к нежелательным последствиям для здоровья женщины и течения беременности. Избыточная продукция активных форм кислорода и снижение активности ферментов антиоксидантной защиты вносят вклад в патогенез таких осложнений беременности, как самопроизвольное прерывание беременности, задержка внутриутробного роста плода, преэклампсия и преждевременные роды [35, 36].
Уровень активности внутриклеточных ферментов антиоксидантной защиты генетически детерминирован, причем избыточное накопление в клетках супероксидного анион-радикала или перекиси водорода сопровождается депрессией участков генома, ответственного за активность внутриклеточных ферментативных антиоксидантных систем [37].
Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о роли полиморфных вариантов генов, отвечающих за эффективность антиоксидантной защиты организма, в развитии бокового амиотрофического склероза, сердечно-сосудистой патологии, онкологических заболеваний различной локализации, с повышенным риском возникновения катаракты и нефропатии при инсулинзависимом сахарном диабете. Недавно изучена их роль в развитии ранних репродуктивных потерь (неразвивающаяся беременность, самопроизвольное прерывание беременности), преэклампсии, фетоплацентарной недостаточности. В период беременности антиоксидантная система (АОС) организма испытывает наибольшую нагрузку, связанную с защитой формирующегося и растущего эмбриона. Поэтому даже незначительное снижение активности ферментов АОС, связанное с изменчивостью генетической основы, может повлечь за собой серьезные нарушения в развитии беременности [38–41].
Заключение
Учитывая вышеприведенные данные, роль АОС в борьбе организма с повреждающими факторами и агентами важна и неоспорима. Таким образом, перспективным направлением в изучении осложнений гестационного процесса и родового акта у юных первородящих представляется исследование уровня активности ферментов антиоксидантной защиты и определение генетической стрессоустойчивости организма как предиктора готовности к материнству, что имеет большую практическую значимость. Дальнейшие исследования помогут выявить генетически детерминированные особенности ферментативной дезадаптации организма юных первородящих и их влияние на течение гестационного процесса и родового акта.