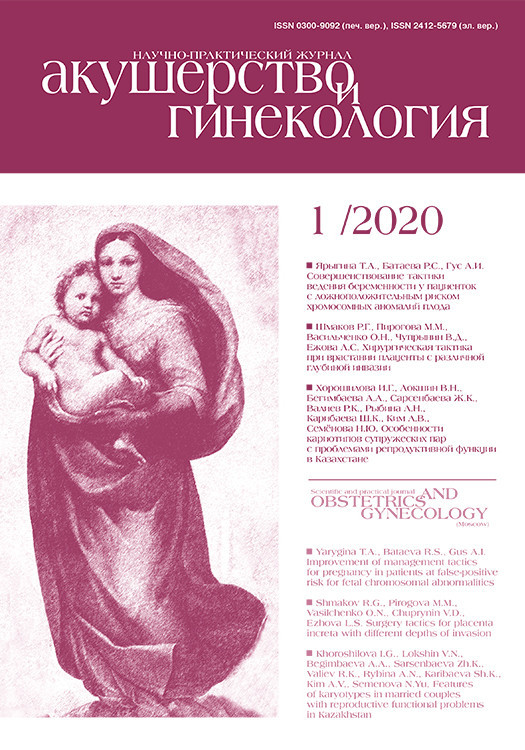Преэклампсия (ПЭ) является ведущей причиной перинатальной смертности и заболеваемости во всем мире, осложняя от 3 до 10% всех беременностей. Несмотря на многочисленные исследования, этиология и патогенез данного осложнения продолжают оставаться предметом активного научного поиска исследователей медико-биологических специальностей. На сегодняшний день общепризнанной является теория о том, что ПЭ является следствием недостаточной плацентации, обусловленной неполноценным ремоделированием спиральных артерий. В конечном итоге плацентарная гипоперфузия приводит к генерализованной эндотелиальной дисфункции и задержке роста плода (ЗРП). В то же время для обеспечения достаточного транспорта питательных веществ и благоприятного течения беременности кардиоваскулярная система матери претерпевает ряд существенных функциональных гемодинамических изменений. По мнению ряда авторов, именно нарушение этих процессов лежит в основе развития ПЭ [1–3].
Несмотря на то что недостаточная плацентация, безусловно, играет важную роль в патофизиологии ПЭ, в настоящее время имеются убедительные доказательства того, что дезадаптация материнской гемодинамики вносит не менее важный вклад в патогенез данного осложнения беременности [4, 5].
ПЭ и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) имеют общие генетические риски [6, 7]. Поддержкой данной теории являются факты о том, что у женщин, перенесших ПЭ во время беременности, риск развития ССЗ повышен в 2 раза, а при совокупности ПЭ и ЗРП – в 8 раз [8]. По данным Европейского гинекологического общества, ранняя ПЭ признана специфическим фактором риска развития инсульта и связана с повышением риска смерти от ССЗ в 7 раз [9].
Целями данного обзора являются обобщение и актуализация существующих данных об особенностях материнской гемодинамики при ПЭ, возможности ее ранней предикции и подбора терапии с учетом показателей сердечно-сосудистой системы матери.
Изменения материнской гемодинамики при нормальной беременности
Беременность – это динамический процесс, который сопровождается значительными физиологическими изменениями в сердечно-сосудистой системе матери, направленными на обеспечение адекватного кровообращения матки и плаценты для роста и развития плода [10]. Системная вазодилатация является первым и важнейшим гемодинамическим изменением материнского организма, которое происходит уже в 5 недель беременности и тем самым обеспечивает условия для нормальной плацентации. В I триместре наблюдается значительное уменьшение общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), которое достигает минимальных значений к середине II триместра, уменьшаясь на ~35–40% от исходного (до наступления беременности) уровня. Одновременно возрастает минутный объем сердца (МО), который к 24-й неделе может увеличиться на 45%. Уровни систолического (САД), диастолического (ДАД) и среднего артериального давления (СрАД) в I триместре снижаются на 5–10 мм рт. ст. Напротив, частота сердечных сокращений (ЧСС) прогрессивно повышается на протяжении всей беременности на 10–20 ударов в минуту, достигая максимальных значений в III триместре. Общее изменение частоты сердечного ритма представляет собой увеличение на 20–25%, по сравнению с исходным уровнем [10–12].
Особенности материнской гемодинамики при преэклампсии
Результаты клинических исследований показали, что у беременных с ПЭ отмечается повышение ОПСС и снижение МО [13]. В исследовании Valensise и соавт. было обнаружено, что женщины с ранней (до 34 недели) ПЭ имели более высокое ОПСС и низкий уровень МО, по сравнению c группой женщин с поздней ПЭ (после 34 недель). Авторы пришли к выводу, что ПЭ с ранним и поздним началом связаны с двумя различными гемодинамическими состояниями в латентной фазе заболевания [14]. В то же время в ходе проспективного исследования 2017 г., в котором оценивались ранние изменения показателей гемодинамики у женщин, развивших в дальнейшем ПЭ и/или ЗРП, было установлено, что значимое снижение МО сердца наблюдалось лишь в группе ПЭ в сочетании с ЗРП. В то время как в группе женщин с изолированной артериальной гипертензией наблюдалось увеличение ОПСС и СрАД [15]. Проведенные ранее исследования показали, что ПЭ связана с повышенной жесткостью сосудов, генерализованной вазоконстрикцией и более высоким ОПСС в сочетании с низким уровнем МО [16]. Эти клинические аспекты могут оказать существенное влияние на дифференцированные подходы в диагностике и лечении, а также на стратификацию сердечно-сосудистого риска у этих женщин после родов.
Оценка параметров артериальной жесткости при преэклампсии
С развитием современных неинвазивных методов измерения гемодинамических показателей возрос интерес к оценке ригидности артериальной стенки. Жесткость артерий считается важным маркером риска при оценке ССЗ. Золотым стандартом оценки ригидности сосудов служит определение скорости пульсовой волны аорты (pulse wave velocity – PWV). Артериальная жесткость, определяемая как aPWV, является независимым предиктором смертности от ССЗ, гипертонии, диабета (СД) 2 типа и терминальной почечной недостаточности [17]. В Рекомендациях Европейского общества по гипертонии 2011 г. было принято, что PWV более 10 м/с при наличии артериальной гипертензии (АГ) необходимо интерпретировать как субклиническое повреждение органов-мишеней, приводящее к сердечно-сосудистым осложнениям [18]. Еще одним показателем, отражающим эластичность сосудистой стенки, является индекс аугментации (Aix), который принимается как показатель эндотелиальной функции в артериях.
Систематический обзор 23 клинических исследований, оценивающих жесткость артерий при ПЭ, показал, что женщины с ПЭ имели повышенную жесткость артерий как во время, так и после беременности. Более того, показатели ригидности в группе ПЭ были достоверно больше, чем при гестационной АГ. Более тяжелые проявления ПЭ были связаны с большей степенью артериальной жесткости [19]. Значительно более высокие уровни PWV и Aix в аорте наблюдались на субклинической стадии (уже в 11 недель) ПЭ. Кроме того, величина PWV на этом сроке была аналогична той, которая наблюдалась при установленном диагнозе ПЭ [20]. Проводимые поперечные и продольные исследования, в которых оценивалась артериальная жесткость на субклинических стадиях, подтвердили, что показатели PWV и Aix могут быть использованы в качестве скринингового теста для прогнозирования последующего развития ПЭ, особенно в сочетании с другими данными [21, 22].
В 2018 г. крупный метаанализ представил результаты 36 научных исследований по оценке артериальной жесткости при ПЭ и нормально протекающей беременности у 15 923 беременных. Было показано, что PWV у женщин с ПЭ была значительно выше, чем у здоровых женщин во II (ОР 1,26; 95% ДИ 0,22–2,30; р=0,018) и III (ОР 0,49; 95% ДИ 0,20–0,78; р<0,001) триместрах. Расчетное среднее значение Aix-75 (индекс аугментации, приведенный к ЧСС 75 уд/мин) было значительно выше у женщин с ПЭ по сравнению со здоровой группой в I триместре (ОР 0,90; 95% ДИ 0,07–1,73; р 1/4 0,034) и в III триместре (ОР 0,48; 95% ДИ 0,20–0,77; р 1/4 0,001). Данный метаанализ показал значительные различия артериальной жесткости при ПЭ, однако подчеркивается, что для использования параметров ригидности сосудистой стенки в качестве скрининга для ранней предикции ПЭ необходимо проведение более масштабных клинических исследований с согласованными методологическими схемами [23].
Что первично?
Несмотря на отсутствие неопровержимых доказательств, общепризнанно, что первичная причина ПЭ заложена в нарушении плацентации вследствие неполного ремоделирования спиральных артерий, приводящего к недостаточной инвазии трофобласта. ПЭ возникает только во время беременности, связана с характерными гистологическими признаками патологии плаценты, часто сочетается с ЗРП, и в подавляющем большинстве случаев единственным методом ее лечения является родоразрешение, что подтверждает вышеизложенную гипотезу [24]. В работе Wikström A.-K. и соавт. [25] исследовалась связь между АД и ПЭ у нормотензивных женщин. На большой популяционной когорте женщин было продемонстрировано, что так называемая предгипертензия (ДАД=80–89 мм рт.ст.) связана с повышенным риском ПЭ, рождения детей с ЗРП и мертворождением. Анализ показателей АД выявил увеличение риска ЗРП на 2% при каждом повышении АД у матери на 1 мм рт.ст. в пределах нормотензивного диапазона.
Учитывая, что плацента является перфузионно-зависимым органом, авторы предположили, что плацентарная дисфункция обусловлена гемодинамическими нарушениями, а не наоборот. Подтверждением данной гипотезы является достоверная взаимосвязь между повышенным материнским АД (в пределах нормотензивного диапазона) и высоким риском развития ЗРП у этих женщин [26]. В предыдущем исследовании было показано, что в ходе эхокардиографической (Эхо-КГ) оценки нормотензивных женщин с ЗРП были выявлены нарушения диастолической функции и ремоделирования желудочков у матери [27]. Имеющиеся данные указывают на то, что ПЭ и ЗРП, вероятнее всего, развиваются вследствие вторичной дисфункции плаценты, вызванной нарушением сердечно-сосудистой функции матери [28]. Кроме того, ПЭ имеет общие факторы риска с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и увеличивает риск развития отдаленных ССЗ [29].
Авторы большого Скандинавского эпидемиологического исследования пришли к выводу о том, что связь ПЭ с ССЗ после беременности в основном обусловлена общими факторами риска до беременности, а не влиянием ПЭ на сердечно-сосудистую систему [29]. Метаанализ 58 систематических обзоров, включавших 1466 первичных исследований с данными о 130 факторах риска, связанных с ПЭ, показал, что единственным негенетическим фактором риска с убедительной связью с ПЭ было донорство яйцеклетки. Хотя предполагаемый механизм донорства яйцеклеток, предрасполагающий к ПЭ, всегда основывался на нарушенной децидуальной восприимчивости и иммунологической толерантности, более поздние исследования показывают, что женщины, вступающие в программу с донацией яйцеклетки, как правило, старшего возраста или имеют синдром Шерешевского–Тернера – факторы, предрасполагающие к повышенному сердечно-сосудистому риску [30, 31].
В систематическом обзоре Kalafat и соавт. [32] доказано, что ультразвуковая допплерометрическая оценка двух, казалось бы, не связанных между собой материнских сосудов: глазной и маточной артерий может использоваться для прогнозирования ПЭ. Ультразвуковая допплерометрия маточной артерии I триместра для прогнозирования развития ПЭ имеет чувствительность 47,8% (95% ДИ 39,0–56,8%) и специфичность 92,1% (95% ДИ 88,6–94,6%), допплерография глазных артерий – чувствительность 61,0% (95% ДИ 44,2–76,1%) и специфичность 73,2% (95% ДИ 66,9– 78,7%). Таким образом, было доказано, что ультразвуковая допплерометрия глазной артерии может быть столь же информативной при скрининге ПЭ, как и оценка маточной артерии. Обнаруженнная взаимосвязь между офтальмологическими допплерометрическими показателями и ПЭ не может быть следствием нарушения инвазии трофобласта и, скорее всего, связана с общей гемодинамической дезадаптацией к беременности [4, 33].
Влияние гемодинамики на выбор антигипертензивной терапии
Ранняя предикция и диагностика ПЭ дает возможность начать антигипертензивную терапию (АГТ) до развития клинической картины. В настоящее время нет единого мнения относительно наиболее эффективной АГТ при ведении беременных с ПЭ.
Подходы к выбору АГТ с применением гемодинамики были исследованы у небеременных пациенток. В одном из рассмотренных исследований был разработан заранее определенный протокол АГТ, основанный на гемодинамическом профиле каждого пациента с АГ. С целью лечения пациенток с низким МО и высоким общим периферическим сосудистым сопротивлением (ОПСС) (что характерно для ранней ПЭ) вместо стандартных β-блокаторов в схему были включены блокаторы кальциевых каналов, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, блокатор рецепторов ангиотензина. И наоборот, пациенткам с нормальным МО и низким ОПСС назначали β-блокаторы. Контроль АД был более эффективным у пациенток, у которых применялось гемодинамическое исследование, по сравнению с пациентками, получавшими лечение по стандартным схемам [33, 34].
Несмотря на то что вышеописанный подход к подбору АГТ продемонстрировал большую эффективность, в клинической практике он не нашел применения. Беременные, у которых впоследствии развивается ранняя или поздняя ПЭ, уже на ранних сроках имеют различия в гемодинамическом профиле, следовательно, индивидуализированный подход с учетом типов кровообращения может улучшить исходы у этих женщин [35].
Несмотря на распространенность и тяжесть ПЭ, не существует общепринятых стандартов для ее лечения. Было показано, что аспирин улучшает исход беременности у женщин с риском развития ПЭ, но не влияет на уровни АД [36–38]. На сегодняшний день выбор антигипертензивных препаратов для лечения гестационных гипертензивных расстройств основывается на знаниях и опыте врача, побочных эффектах и противопоказаниях, доступности и стоимости препарата [39]. Вместе с тем проведение рандомизированных исследований по эффективности различных видов лечения, направленных на снижение периферического сопротивления и улучшение гемодинамического профиля, в сравнении с воздействием только на АД, возможно, будет способствовать дифференцированному подбору, определению сроков и длительности терапии.
В Кокрановском обзоре, где сравнивали антигипертензивные средства у беременных с тяжелой АГ, был сделан вывод о том, что, по-видимому, нет различий в антигипертензивной эффективности между гидралазином, лабеталолом и нифедипином [40]. Недавнее рандомизированное контролируемое исследование, в котором изучали выбор АГТ для беременных женщин с АГ, пришло к выводу, что и лабеталол, и нифедипин одинаково эффективно контролируют уровень АД в пределах целевых значений [41]. Другой Кокрановский обзор определил, что АГТ у беременных с легкой и умеренной гипертензией значительно снижала риск последующего прогрессирования заболевания до тяжелой формы, но не влияла на риск развития ПЭ и ЗРП [42]. Интересно, что АГТ β-блокаторами и блокаторами кальциевых каналов снижала риск развития протеинурии/ПЭ, по сравнению с терапией метилдопой (ОР 0,73; 95% ДИ 0,54–0,99). Риск развития протеинурии/ПЭ у беременных с легкой и умеренной АГ был значительно снижен с помощью терапии β-блокаторами (ОР 0,73; 95% ДИ 0,57–0,94), что оценивали в 8 исследованиях с 883 женщинами, и значительно увеличен при терапии блокаторами кальциевых каналов, что оценивали в 4 исследованиях с 725 женщинами (ОР 1,40; 95% ДИ 1,06–1,86), по сравнению с группами, не получающими данные препараты [42].
АГТ с гемодинамическим мониторингом у беременных женщин с любым типом гипертонии значительно снизила частоту тяжелой материнской гипертензии – с 18 до 3,8% [43].
В результате обзора, опубликованного в 2018 г., еще раз было подтверждено, что концепция индивидуальной терапии имеет мощный потенциал для улучшения контроля АД, перфузии плаценты и перинатальных исходов у женщин с ПЭ. После начала АГТ рекомендуется продолжать гемодинамический мониторинг для оценки эффективности выбранной терапии и выявления любых резких отклонений от исходного наблюдаемого гемодинамического профиля [44].
Связь материнской гемодинамики и преэклампсии. Роль эндотелиального гликокаликса
Существенными последствиями плацентарной ишемии являются развитие системного воспалительного ответа и эндотелиальной дисфункции. В последние годы многие исследователи описывают ПЭ как острую патологию эндотелия, которая приводит к нарушению тонуса сосудов, их проницаемости, баланса между тромбогенным потенциалом, а также сосудистой строморезистентностью. Исследования последних лет описывают эндотелий как активный эндокринный орган, рассеянный диффузно по всем структурам и тканям, существующий как самостоятельная регулирующая система, постоянно вырабатывающая огромное количество биологически активных веществ, которые участвуют в регуляции гомеостаза [45].
Эндотелиальный гликокаликс (ЭГК) представляет собой высокоорганизованную протективную структуру сосудистого русла. Повреждение ЭГК является одним из первых патогенетических механизмов развития различных патологий, в первую очередь ССЗ. Гиперволемия, гипергликемия, гиперлипидемия, воспалительные агенты, активные формы кислорода – факторы, вызывающие повреждение ЭГК. При разрушении и модификации ЭГК теряет свои защитные свойства, что играет решающую роль в развитии ряда сосудистых патологий [46].
Исследования по изучению ЭГК в патогенезе ПЭ крайне малочисленны. Представляют интерес результаты сравнительных измерений толщины ЭГК при ПЭ in vivo в небольших подъязычных сосудах с использованием темнопольной визуализации боковым потоком, которые подтвердили гипотезу о том, что деградация ЭГК усиливается у женщин с ПЭ, по сравнению с нормотензивными беременными женщинами [47].
Возможно, повреждение ЭГК связано с гемодинамическими нарушениями в результате дезадаптации материнской гемодинамики к беременности. Как известно, одна из основных причин повреждения ЭГК – гиперволемия, которая неизбежно развивается в течение беременности. Но для подтверждения данной гипотезы, безусловно, необходимы дальнейшие исследования состояния ЭГК в комплексе с оценкой гемодинамического профиля матери.
Заключение
Таким образом, стратификация женщин, планирующих беременность, с учетом современных показателей гемодинамики, исследование гемодинамического профиля во время беременности способствуют предикции и ранней диагностике ПЭ, оптимизируют АГТ путем индивидуального подбора. Совместное изучение состояния ЭГК и материнской гемодинамики является перспективным научно-практическим направлением, расширяющим представления о ПЭ и представляющим новые подходы в терапии этого тяжелого и разрушительного осложнения.